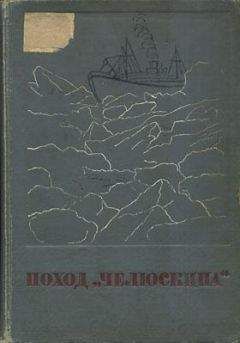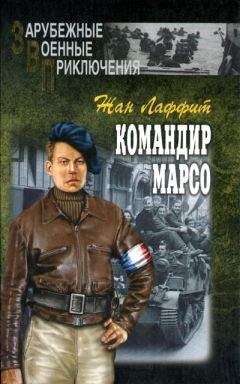Он поднял руки, как бы защищаясь от возражений:
— Прошу вас понять правильно: я не хочу чернить пропавших туристов, но результаты поисков на сегодняшний день — палатка с вещами и продуктами — вынуждают меня делать подобные предположения. Я считаю, что лучше худшее предположить, чем обнаружить. Разве не так?
Не согласиться с этим было действительно трудно. Почувствовав молчаливое одобрение членов штаба, Новикоз заговорил увереннее.
— К сожалению, в пропавшей группе был еще, по крайней мере, один сомнительный человек. Вот несколько выдержек из показаний, которые довольно ярко характеризуют этого человека: "Близких друзей у него нет. Неприятный он какой-то…"
"За что его обсуждали на комсомольском бюро? Он кого-то избил…"
"Вечно он один ходит. Во всяком случае, я никогда не встречал его вдвоем с девушкой. Почему? Да он парень довольно грубоватый…"
Так характеризуют этого человека его же товарищи.
— Кто же это? — перебил прокурора Турченко.
— Норкин Николай. Я бы мог привести еще несколько подобных высказываний. Все они говорят о том, что движущими чертами в характере Норкина являются злость и агрессивность. Скажите, разве такой человек не мог вызвать в группе ссору или драку со всеми вытекающими последствиями?
С минуту все молчали. Потом полковник спросил:
— А как вы себе это представляете? Как могла вспыхнуть в группе драка?
Новиков развел руками:
— Пока я могу лишь предполагать, мне надо осмотреть палатку самому…
— Завтра с первым же рейсом мы забросим туда вас и Воронова, — тотчас пообещал полковник. — Сейчас я могу высказать только рабочую версию. Спирт, девушки… Могли быть и еще какие-то, пока нам не известные причины, вызвавшие ссору… Во время драки наверняка были пущены в ход ножи, члены группы покинули палатку. Одни дрались, другие успокаивали, третьи разнимали… Времени понадобилось много, если драку вообще удалось прекратить… Вероятно, члены группы отошли от палатки далеко, возможно, была еще и метель. Короче говоря, назад, к палатке, они дорогу не нашли. Это очевидно.
Все сидели подавленные. Картина, нарисованная прокурором, не оставляла никаких надежд. А опровергнуть его версии было нечем, да и некому. Разве только Воронов… В конце концов, именно к нему и обратились взоры членов штаба.
— Ну, так что вы на это скажете, товарищ Воронов? — несколько грубовато обратился к нему Турченко. — Могло быть такое у ваших туристов?
— Нет, — резко ответил Воронов, — В это я не верю.
— Значит, вы полностью исключаете и драку и ссору?
Это уже спросил Кротов.
— Да, исключаю полностью.
— Чем же вы тогда объясняете находку палатки с вещами и продуктами?
— Надо все осмотреть на месте. Я думаю, что Васюков ошибся. В палатке он, вероятно, обнаружил вещи, в которых туристы спят.
— А продукты?
— Неприкосновенный запас.
— Ну и что дальше?
Теперь вопросы сыпались со всех сторон. Молчал лишь Виннер. Он сидел у окна и страдальчески морщился.
— Очевидно, все-таки с ними произошло несчастье. Возможно, при подъеме на Рауп. Они оставили у подножия палатку и налегке поднялись на Рауп.
— Но палатка порвана…
— Ветер. Прошло десять дней.
— А что вы думаете, председатель спортклуба? — повернулся к Виннеру Турченко.
Виннер встал. Он потер руки, поморщился, ему очень не хотелось высказываться…
— Я не знаю… Оставить палатку с вещами так далеко от вершины… Не знаю. Таких случаев не было. А Сосновский — турист грамотный… Палатка почти в пятнадцати километрах от Раупа. Это четыре часа на лыжах. Им же еще надо было подниматься на вершину… Не знаю, не знаю.
— Значит, вы присоединяетесь к мнению прокурора? — настойчиво спросил Турченко.
— Нет, нет, — даже замахал руками Виннер, — Никакой драки у них быть не могло. Это невероятно! Такого у нас еще не было!
— Все когда-то случается впервые, — философски заметил прокурор.
"31 января.
Поземка шуршит по насту, позванивают обледеневшие веточки на березах — беспрерывный печальный звон. Почти "Зимние грезы" Чайковского в далеком глухом урмане исполняет сама природа.
Я стою под березой и слушаю. У моих ног на пеньке стоит усталый Глеб. Быстро темнеет, под куртку начинает пробираться холод.
— Хрустальный звон. Ты слышишь, Глеб?
— Да, слышу, Неля. Так бывает в лесу в марте. Наверное, была оттепель.
Оттепель? Ой, Глеб, какой ты сухарь…
— А ты помнишь, Глеб, наш первый зимний поход? Я тогда еще уши обморозила, и ты мне их растирал варежкой. И ругался: "Оттирать снегом обмороженные уши — то же самое, что на обожженное место лить кипяток",
— Да, тогда был сильный мороз. Куржак.
Мороз-куржак? Да, я знаю, что это такое. Накануне дня два падал снег, мела пурга. А потом вдруг все стихло, выглянуло солнце, и вот тогда-то и пришел этот куржак, На людях, деревьях, даже на лыжах выпал толстый иней. Мы шли по сказочному лесу. Под окутанным дымкой солнием деревья стояли в плюшевых наростах инея. Мороз-куржак.
— И ты меня тогда следопытской грамоте учил. Водил по кустарникам и показывал следы. Ты сказал, что зайчихи никогда не возвращаются к своим зайчатам, а кормят первых попавшихся. Странно, правда? И еще ты мне тогда подарил чечетку. Она залетела в палатку, а ты ее поймал. "Чив-чив-чив" — помнишь?
— А ты ее выпустила.
Я стою под березой и со мной Глеб. Надо мной тончайший печальный звон. Мне холодно, и я протягиваю руку Глебу…
— С тех пор, как я увидел тебя, ты все время со мной. Ребята спрашивают: что ты улыбаешься? А я знаю, когда тебе хорошо… Тебе холодно?
— Мне тепло, Глеб.
Налетел ветер. С сосновых вершин глухо падают на землю снежные шапки. Издалека, словно с другого материка, доносится Люськин вопль: "Глеб! Неля-я! Ужи-ин!"
— Надо идти?
Глеб прислушивается.
— Да, надо. Будут искать. Я заросший? У меня есть бритва. Я побреюсь?
— Ты смешной. С бородой же теплее.
Глеб усмехается и проводит ладонью по своему лицу.
— Да, теплее.
Мы возвращаемся к костру. Люська встречает насмешливым вопросом:
— Вы, конечно, случайно пришли вместе?
Я не обращаю внимания на Люсино ехидство. Я знаю, что она добрая.
После ужина забираюсь в палатку. В ней уже разобраны вещи, расстелены одеяла. Посреди палатки на чурбаках гудит печка. Я укладываюсь, закрываю глаза и чувствую, как меня начинает укачивать дорога. Бесконечно длинная, трудная дорога.
К вечеру 31 января мы прошли, судя по крокам, около восьмидесяти километров. Щегольская белая штормовка Коли Норкина на спине побурела от пота, а его извечно ироническое "чмо" потеряло свой презрительный оттенок. Вчера у костра он напевал, а это бывает с Колей только в минуты высочайшего блаженства. Даже его серые злые глаза, кажется, оттаяли, Он по-прежнему отпускает "шюточки". ("Шюточки", — говорит Коля, — должны бить не в бровь, а промеж глаз"), но его "шюточки" уже никого не обижают. А вернемся из похода, пройдет день-другой, и Коля опять станет циником, опять он вытянет на свет божий свою теорию о делении человечества на умных негодяев и непроходимых дураков. Себя он относит к промежуточной прослойке, — туристам. К этой же прослойке он вынужден был отнести не только меня, Глеба, Люську, но и Льва Толстого. Перед Толстым Коля немеет. Я не помню случая, чтобы он в разговоре о книгах Толстого употребил свое излюбленное "чмо". "А что, разве Лева не турист? — кипятится Коля. — Вспомните, как он ходил босиком, вспомните, как он накануне смерти ушел из дому. Пешком! Дряхлый старик! Так мог поступить только турист".