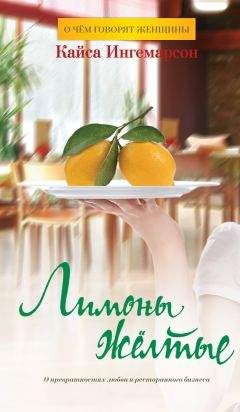Пока «утопленник» изо всех сил стучал в мешке зубами, Бармин, подражая голосу Семенова, строго внушал:
— К сведению ослов, случайно попавших в Арктику: современная медицина подвергает сомнению полезность купания при температуре воды минус один и семь десятых градуса, так как данная водная процедура, не будучи в состоянии расшевелить отсутствующие у осла мозги, вызывает, однако, неприятные ощущения в виде дрожи всего ослиного тела и непроизвольные вопли "И-а! И-а!".
— П-пошел к ч-черту! — рычал Филатов.
— Лексикон явно не мой, — улыбался Семенов.
— Зато осел тот самый! — возражал Бармин.
Станцию открыли на третьи сутки.
Лучшей льдины Семенов, кажется, еще не заполучал. Два на два с половиной километра, трехметровый паковый лед, а вокруг, как мечтал, льды молодые, толщиной около метра. На них-то Семенов и оборудовал лучшую посадочную полосу, какую когда-либо имел в Арктике: «оборудовал» не то слово, лед здесь был настолько ровным, что и делать ничего не пришлось, разве что прогулялись по нему, самую малость подчистили и разметили полосу. Когда начались регулярные рейсы — завоз людей и грузов, летчики на ту волосу садились с песней: длина — побольше километра, ширина — метров двести пятьдесят. "Как в Шереметьево! — похваливал Белов. — Умеет же Серега выбирать льдину!"
Ну, это Коля скромничал, выбирали вместе.
Льдину ли?
В тот вечер, когда ее нашли, Семенов и его ребята проводили самолет, разбили на льду палатку, хорошенько подзакусили и улеглись отдыхать. С метр от пола — жара не продохнуть, на полу — минус десять, залезли в спальные мешки. Семенов долго не мог забыться, лежал в спальнике и думал, не совершал ли в чем ошибку. Восстановил в уме план Льдины, несколько раз мысленно ее обошел, замерил высоту снежного покрова, торосов, прошелся по периметру лагеря и, утвердившись в хорошем своем впечатлении, собрался было отключиться, как вдруг до него донеслось бормотание дежурного Филатова.
Семенов осторожно выглянул из спальника. Притулившись к газовой печке, Филатов отрешенно смотрел перед собой и бормотал одну и ту же фразу; потом, по интонации судя, перекроил ее, опять пробормотал несколько раз и вернулся к первоначальной, которая, видимо, пришлась ему по вкусу, так как он вытащил записную книжку и стал черкать карандашом.
Семенов улыбнулся, поудобнее улегся и закрыл глаза.
А фразочка та врезалась ему в память, и он не раз вспоминал ее во время дрейфа.
«Не льдину ты выбираешь — судьбу…»
Незадолго до событий, в которые я оказался вовлечен, меня пригласил на встречу кружок «Юный полярник». Обычно я отказываюсь от такой чести, полагая, что есть более достойные кандидаты, но на сей раз юные энтузиасты доставили меня приводом и, поставив перед собой, потребовали: «Рассказывайте!»
Припертый к стенке, я лепетал что-то насчет того, что ничего особенного со мной не случалось, но потом, не в силах выдержать осуждающих взглядов, разошелся и стал рассказывать. Сначала о том, как мы — начальник станции Семенов, его ближайший друг и заместитель метеоролог Гаранин, врач Бармин, механики Дугин и Филатов прилетели расконсервировать станцию Восток — полюс холода нашей планеты, отпустили самолет и попали в ловушку: дизели, без которых на Востоке нельзя жить, оказались размороженными. Я не скрыл ничего: ни наших бурных споров и взаимных обвинений, ни железной настойчивости, с какой Семенов заставил нас, полумертвых от холода и горной болезни, из двух дизелей монтировать один, ни трагической истории с разбитым аккумулятором — я не назвал лишь фамилии человека, который его уронил…
В жизни еще у меня не было столь благодарных слушателей! Со станции Восток я перенесся на антарктический берег, на Лазарев, где одиннадцать отзимовавших полярников ожидали, когда «Обь» наконец заберет их на борт, а «Обь» никак не могла подойти, и мы, обреченные на вторую зимовку подряд, «одиннадцать рассерженных мужчин», переходили от отчаяния к надежде, от надежды к отчаянию, а когда за нами прилетели две «Аннушки», из которых одна оказалась поврежденной, замерли в ожидании: кому на каком самолете лететь?
А ночью, растревоженный воспоминаниями, я долго ворочался и не мог уснуть. Там, на Востоке, Семенов своим жестоким приказом из двух дизелей монтировать один спас нам жизни. На Лазареве Андрей Гаранин своей единственной правдой — отказаться от полета на одиноком ЛИ-2, поскольку это опасно для жизни экипажа, спас нашу честь. Они всегда дополняли друг друга, Николаич и Андрей Иваныч, они были двое в одном: Семенов — воля коллектива, Гаранин — его совесть…
Я думал о том, что предстоящий мне дрейф будет трудным. Ибо если и есть на свете что-то неизменное, то это непреклонность, раз навсегда сложившаяся уверенность в своих суждениях моего друга Николаича. Не знаю, кем бы он мог стать при ином повороте судьбы, но только не дипломатом, так как на компромиссы не шел и оценок, однажды сделанных, не менял: да — да, нет — нет, а остальное от лукавого. Единственным человеком, которому порой удавалось разубедить Николаича в его непогрешимости, был Андрей Иваныч, его вечный зам, и мне казалось, что теперь, когда его уже почти год с нами нет, Николаичу суждено окаменеть в своей принципиальности. А я хотя и люблю Николаича, но всегда считал, что начальник должен быть помягче и не проявлять однообразной твердости там, где нужна гибкость.
Теперь можете себе представить, как я был приятно удивлен, когда Николаич стал одну за другой сдавать свои позиции! Знай я заранее события, которым суждено произойти в конце зимовки, то сказал бы еще больше, но пока ограничусь этим и забегать вперед не стану.
Сначала, однако, о том, как я здесь оказался. Если бы несколько месяцев назад кто-нибудь поинтересовался, зачем я пошел в этот дрейф, я попросил бы задать вопрос полегче. Узнав, что Свешников уже вызвал Николаича в Институт и долго с ним беседовал, я затих, притворился мертвым и стал ждать. Веня, который проявил невероятную изворотливость и выменял себе однокомнатную квартирку в нашем доме, каждый вечер прибегал за новостями, а их все не было. Николаич не объявлялся, самому звонить рука не поднималась, но шестое чувство подсказывало, что скоро меня выдернут, как картошку, из родной почвы и повезут мерзнуть за тридевять земель. Я кожей чувствовал, что атмосфера сгущается, и в ней, как булгаковский Коровьев, вот-вот появится демон-искуситель, парализует мою волю и потащит к черту на кулички.
Откровенно говоря, я ждал и боялся этого момента. Ждал потому, что по ночам видел айсберги, карабкался на торосы и с криком проваливался в трещины, — пресловутые "белые сны", над которыми полярники не очень искренне посмеиваются и после которых в их глазах появляется нечто такое, что заставляет жен тревожно задумываться: "Уж не намылился ли мой бродяга?" А боялся потому, что жилось и работалось мне хорошо, Нина с годами становилась все милее, а по пятницам я забирал из яслей Сашку; минуту, когда он вползал мне на плечи, закрывал ручонками мои глаза и вопил: "Угадай, кто?" — я не променял бы и на сто профсоюзных собраний.