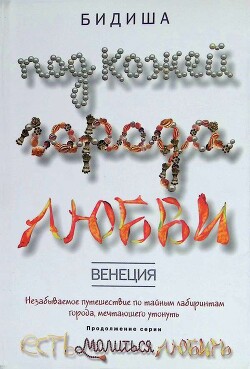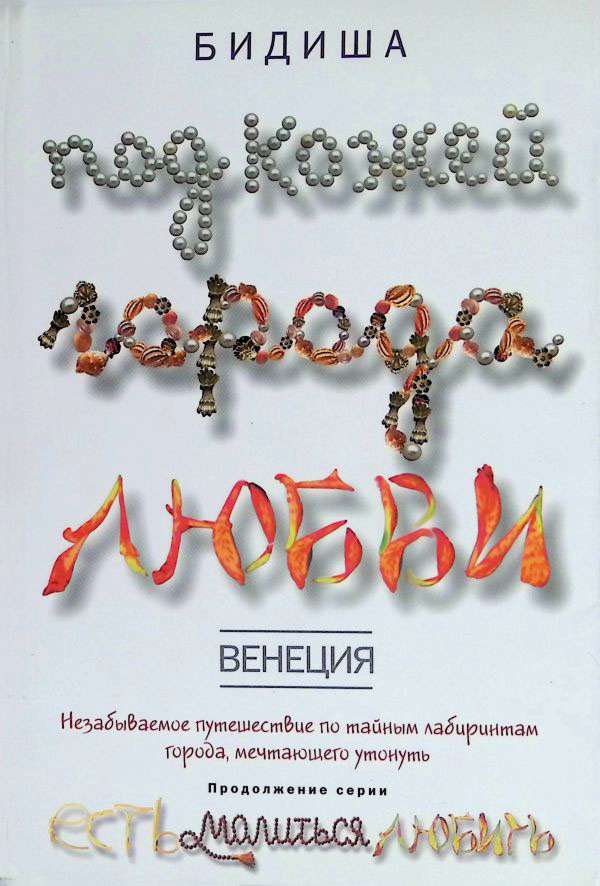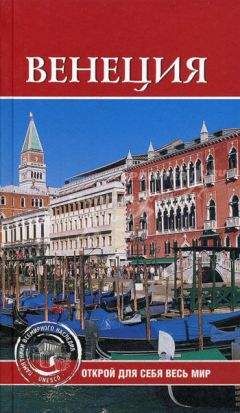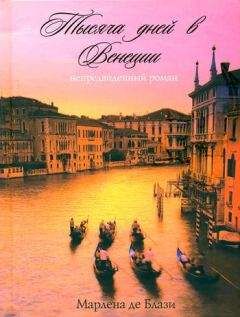Грегорио отпирает лязгающую металлическую дверь и сопровождает меня вверх по мраморной лестнице, намереваясь показать, где живут они с Лукрецией.
Пришлось придержать челюсть, чтобы не отвалилась, когда передо мной открылся этот необозримый белый простор с мраморными полами, до блеска начищенными канделябрами, вереницей громадных ваз — черно-оранжевых и темно-синих, — модернистской лампой, напоминающей брызги расплавленного металла, пятиметровым стеклянным столом, резными скамьями, похожими на церковные, со старинным сундуком, потускневшим зеркалом в золоченой раме, с проемами, ведущими в примыкающие комнаты, и, наконец, с высокими дверями в конце, через которые приглушенно просвечивали белоснежные стены балкона.
— Пойдем, пойдем, покажу тебе кое-что, — приговаривает Грегорио, распахивая балконные двери.
Мы выходим и оказываемся прямо над Большим каналом: чернильная вода с неоново-белыми бликами света, низкий серпик месяца. Тишина, поскрипывание…
Желаем друг другу спокойной ночи, и я отправляюсь в квартиру Стефании, где внезапный приступ энергии заставляет меня распаковать и аккуратно разложить все вещи. Потом принимаю душ и ложусь. Вся комната в бледном лунном свете. Никаких звуков, только плеск воды. То, что надо для сна.
Моя любимая подруга Стефания вернулась из Рима рано утром следующего дня, и к тому времени, когда я продрала глаза, она уже готовила на кухне кофе. Мы со Стефанией познакомились в 2001 году в Лондоне, вместе учились там в магистратуре. В первый же день, когда я возилась у буфетной стойки во время вечеринки-знакомства, ко мне подошла симпатичная коренастая девушка и заговорила. После защиты наших работ она вернулась в Италию и начала снимать кино.
С гривой светлых волос ниже пояса, румяными круглыми щечками, вздернутым носом, золотистой кожей и глазами цвета бирюзы, она страшно напоминает львенка из мультика. Мы завтракаем, болтаем и глазеем в окно на бесконечные ряды черепичных крыш. Утреннее солнце льет веселый желто-розовый свет.
В последующие десять дней у нас вырабатывается целый ритуал: сначала мы пьем кофе в пастичериях (кафе-кондитерских), наблюдая, как местные жители — высокие, холеные, стройные и изысканные — выбирают лакомства из десятков выставленных в витрине. Пирожные тут крохотные, на один зуб. После этого мы встречаемся с Джиневрой и проводим день вместе — бродим, осматривая город. Кончается день аперитивом в остерии (маленький ресторанчик, что-то вроде трактира). По утрам меня будит плеск воды, звуки, доносящиеся с проплывающих мимо лодок, крики гондольеров и особый перламутровый свет. Джиневра, Стефания и ее родители говорят со мной в основном по-английски, прочие разговоры ведутся на итальянском.
Я отмечаю, что у венецианцев существует особый стиль, выдержанность, уравновешенность. Когда мы втроем держимся вместе, все, к кому бы мы ни обратились, отвечают деловито, четко, с неизменной галантностью. Есть и делать покупки здесь полагается легко, как бы мимоходом, не проявляя жадности; разговор выразительный и живой, но без грубости; вульгарность не приветствуется, а сдержанности отдадут должное. Кофе принято пить в течение дня, хорошее вино — вечером. И непременно следует хорошо одеваться, если не хотите подвергнуться остракизму.
У нас появилось свое кафе, «Caffè Rosso» на Кампо Санта-Маргерита, и свой ресторанчик, куда мы заходим поесть или пропустить по стаканчику, — «La Cantina» на Страда Нова. Мой итальянский вполне позволяет самостоятельно заказать чашечку кофе, и я понимаю примерно половину того, что слышу вокруг, но, если вдруг кто-нибудь обращается прямо ко мне, я цепенею.
В первые несколько дней все в Венеции мне кажется похожим: и мосты, и улицы, и солнечные пыльные площади, и магазины, торгующие товарами, в основном предназначенными для ублажения тела и женской души, — если это не одежда и не обувь, так сумки, шарфики, броши, белье и перчатки. Диккенс описывал Венецию завитой, извилистой, скрученной, как пружина. Неправда. На самом деле ее всю нарезали на кусочки и уложили стопками, а сверху присыпали черепичными крышами. На карте это выглядит как мягкий завиток, как тающие в море инь и ян, но стоит оказаться на тесных улицах, зажатой среди домов, и продвигаться куда-то, сворачивая наугад то влево, то вправо, чувствуешь себя мышью в ящике со старыми книгами. Здания начинают казаться все выше, монументальнее и темнее, потом они становятся плоскими и неотличимыми. Чтобы отдохнуть от этого ощущения, между двумя посещениями музеев я обычно отсиживаюсь на скамейке где-нибудь на берегу моря или на набережной Большого канала. Отмечаю оттенки: вода может звучать как смех, как звон ключей или цепи, как эхо, даже как выстрел. Иногда я не могу различить, что слышу: колокола ли это, моторы или голоса, дети или птицы, шорох волн или шорох шин, — звуки отражаются и меняются. Гудение лодочного мотора — это монотонная басовая нота глубоко в воде, а вот какой-то звук, как будто стул протащили по полу.
Однажды утром Стефания и Джиневра ведут меня в Сан-Поло. Это в центре Венеции, по другую сторону от моста Риальто (мне представляется, что это как бы другая половинка бисквита), где улицы еще у́же, с множеством церквей, извилистые, промозглые и таинственные. Прилавки на рынке за мостом пестрят дешевой одеждой, просторными футболками с надписью «Венеция», импортными кожаными кошельками, а прилавки с фруктами дразнят изнемогающих туристов сочными ломтями арбузов, коробочками клубники и половинками кокосовых орехов. Мы видим группу детей с родителями, идущих из школы, — и вот что бросается в глаза: семейная жизнь здесь на виду, к ней относятся с уважением, и это отражается на детях — шумливых, бойких, располагающих к себе. Правда, на сей раз все не так гладко: девчушка лет шести бросается прочь от группы, рыдая и всхлипывая. На ходу она сквозь слезы что-то кричит матери, которая следует за ней со смущенной, усталой улыбкой.
Стеф с усмешкой переводит мне:
— Она говорит: почему ты всегда так внимательна к гостям и никогда — ко мне?
Тесные улочки выводят нас к мастерской, закопченной и тесной. Здесь делают из кожи необыкновенную обувь, она громоздится в витрине, напоминая изысканные пирожные. Вот незатейливые золотистые башмачки в стиле восемнадцатого века, вот длинные клоунские туфли с помпонами на пятках, а вот жеманные викторианские сапожки с пуговицами на боку, все в розовых и черных брызгах. В глубине мастерской молодая женщина с вьющимися темными волосами обрабатывает пунцовый лоскут кожи: прострачивает его на швейной машинке из чугуна. Со спокойного лица не сходит легкая улыбка.
— Все это она делает сама, — говорит Джиневра, когда мы входим. — О ней рассказывают историю… Якобы, когда она была совсем юной, однажды она проснулась и сказала: «Мне нужно делать туфли… Я буду делать туфли». Она пришла в эту мастерскую и обратилась к мастеру: «Вот я. Я хочу учиться». А он, представляешь, ответил: «О, ты еще слишком мала, девочка. Уходи и подумай получше, ты ведь можешь заняться чем-то другим, например, выйди замуж, а это дело не для тебя…» Тогда она поступила на знаменитые курсы, где учат делать обувь, — лучшие курсы в Италии. И через три года снова пришла сюда, постучала в дверь и сказала мастеру: «Я научилась. Теперь ты учи меня». Она не уходила, пока он не взял ее к себе. А теперь дело принадлежит ей.
История меня задевает, но я не произношу вслух того, о чем подумала: если бы в эту дверь постучал семнадцатилетний парнишка, вдохновленный мечтой и полный энергии, мастер, пожалуй, вцепился бы в него, тряс бы его восторженно за плечи, нахваливал бы за такое решение, познакомил бы со своим отцом, дядей и всеми братьями и тут же усадил за работу без всяких трехлетних курсов.
Мы отправляемся на Кампо Санта-Маргерита, самую оживленную площадь Венеции с множеством кафе и баров. Кого только не встретишь в этой толчее: туристы, респектабельные семьи, старики и дети-сорванцы, торговцы и подсобные рабочие, толкающие перед собой грохочущие деревянные тележки с мусором. В одной лавчонке, «Pizza al Volo» («Пицца в полете»), продают пиццу на вынос, в другой предлагают табак, открытки и марки, в третьей — всякую дешевую всячину от старых школьных учебников до штепсельных вилок и носков.