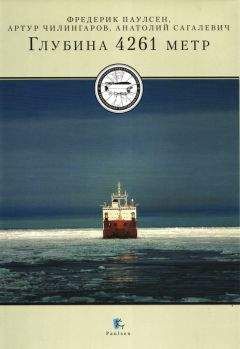Ознакомительная версия.
Вольноопределяющиеся
На светло-сером, цвета этого города, постаменте – еще один небольшой постаментик, приступочка даже. Сверху она имеет каменные завихрения, то ли в виде стружки, мол, смерть-рубанок обстругивает наши жизни, то ли волн, несущихся по океану бытия, Бог знает, скорее волн все-таки, ведь на них покоится саркофаг. Композиция вся целиком похожа на карету, даже на старую артиллерийскую фуру с ядрами и порохом, из которой выпрягли лошадей. Что, в общем-то, верно – покойный был сущий порох, с его сатирическими памфлетами, романами, пиесами, с неистовой политической и общественной страстью, с его муниципальной службой, столь высоко оцененной потомками. Жил, писал, разорялся и богател, женился, заводил и терял детей, пока наконец астма плюс подагра плюс кто знает что еще не прикончили его здесь на сорок восьмом году жизни, в чужой стране, в чужом городе, куда он рванул в отчаянной попытке излечиться. Кто помнит его сейчас, лежащего в этой каменной колыбели смерти, которую несут каменные же волны; на пьедестале много латинских букв, более торжественных, нежели вот эти мои. Ну, студенты должны знать, конечно, профессора, в Вики есть статья, в Проекте Гутенберга – главный его роман, да еще пока жив курилка-крунер с именем героя этого главного романа. А вокруг зелень кладбища, где лежат его соотечественники, оказавшиеся здесь, на прекрасной чужбине; по крайней мере есть с кем поболтать ночами. Болтать покойный явно любил. Впрочем, марать бумагу он любил еще больше.
За несколько месяцев до смерти он написал: «Что касается домов, монастырей, церквей и проч., то они, будучи велики и построены из белого камня, выглядят изрядно красиво на расстоянии; но стоит подойти ближе и обнаружить недостаток любых видов украшения, тогда всякое представление о красоте сию же минуту развеивается. Пока я изучал панораму этого города, который столь непохож на все прочие, виденные мною, мне пришла в голову мысль, что если некоего человека внезапно перенести сюда из самой Пальмиры и больше не показывать видов иных городов, то сколь прекрасной будет для него древняя архитектура! и каковое опустошение и упадок искусств и наук он сочтет произошедшим за несколько эпох во всех остальных городах!»
Да, наверное, это последнее сохранившееся свидетельство о старом Лиссабоне, том, что уже через год после «Дневника путешествия в Лиссабон» Генри Филдинга, сочиненного в 1754-м (последняя запись примерно за четыре месяца до смерти автора), был разрушен страшным землетрясением. Мертвый Филдинг похоронен как бы сразу в двух каменных саркофагах – том, что несут волны пьедестала на английском кладбище, расположенном на севере тихого парка Эстрела, и в саркофаге из обломков самого города, столь невзлюбленного им. Филдинг – в гробу, гроб – на кладбище, кладбище – в парке, парк – на месте уничтоженного стихией города, уничтоженный город – часть города нынешнего.
Признаться, я не помню ничего из «Истории Тома Джонса», читал лет тридцать назад, вообще почти ничего из тогдашнего списка использованной в жизни литературы не помню. Забвение – лучший памятник; Филдинг в своей каменной колыбельке оценил бы сию фразу. Более того, мы и не попали на его могилу: шли через Байрро Альто, затем – по Кальсада да Эстрела, болтали о разных русских и английских пустяках, потом заглянули в огромный собор у входа в парк, внутрь не пустили, посоветовав залезть на колокольню за отдельную плату. Нет уж, спасибо. Лень, не жадность. У самого входа в собор, справа – специальная часовенка для отпеваний, там уже стояло несколько одетых в черное фигур, они явно вышли из черного мерседеса, припаркованного у паперти, за рулем угадывалась еще одна траурная фигура, интересно, это до или после похорон? Или година? Прощаются? Поминают?
В парке было, наоборот, не по-январски тепло, солнечно, бегали какие-то дети, по аллеям ползли самые благородные в мире лиссабонские старики. В сущности, тоже меланхолия, но в других цветах; меланхолия вообще не есть палитра или даже рисунок, это интонация, а чтó уж там говорится, неважно. Но разговор наш шел о баснословных поездках в Кингстон, о тамошней школе, об одной немолодой семейной паре из Суссекса, об автозаводских старушках, о транспорте советских времен, о рижских трамваях и львовских автобусах, этих символах дружбы народов, эсэсэсэровского разделения труда, мудрости плановой экономики. Мы прошли по главной аллее парка, мимо небольшого пруда, оставили справа детскую игровую площадку с небольшим киоском у северо-западного ее края, вышли в ворота и увидели через дорогу высокую серого камня стену, за ней угадывался большой парк, заросший почтенными деревьями, их кроны возвышались над стеной подобно высокому, мягкому, колышащемуся куполу, увенчивая картину, образ чего-то завершившегося там, убаюканного в собственной конечности, запеленатого в смерть. Да, это и было английское кладбище, только вот закрыто. Мы опоздали. Слишком медленно шли. Слишком много болтали, слишком любопытными были до проявлений местной жизни, от похоронной часовни до уродливой, как и везде в Европе, детской площадки. Так что могилы Филдинга я так и не посетил.
Почему, собственно, я вообще должен идти за семь верст на место упокоения автора, чьих сочинений я по большей части не читал (а если и читал, то намертво забыл), чьей биографии, за исключением десятка фактов, не знаю? Да и вообще, не глупо ли, здесь, в городе Пессоа, думать о вздорном англичанине? Вон, иди, слушай фадо, пей жинжинью, ешь паштель-де-нату и не рыпайся! Нет-нет, бормотал я себе под нос, пока мы спускались вниз к набережной реки, к портовым складам, к закрытому рынку, к полупустым тавернам, оживленным разве что парой сачкующих грузчиков, нет-нет, это же все про Лиссабон, а Лиссабон – он же про смерть, а смерть – она же про нас. Все верно.
Когда его тряхнуло, этот город, когда разломало, когда разрушило и смыло потом морской волной, будто жидкая стихия пришла мстить за Васко, за Фердинанда, за принца Генриха, за Гоа, Бразилию и Молуккские острова, будто решила она вернуть сокровища, нажитые перевозкой по себе корицы, шафрана, кардамона, перца черного и кайенского, смерть вновь заявила о себе во множественном числе, в виде теории и практики больших чисел. Никто не считал, сколько народу сгинуло здесь 1 ноября 1755 года; уже потом, двести лет спустя кто-то из послевоенных умников сравнит лиссабонское землетрясение с Холокостом. Это глупость, да, конечно, глупость, но суждение даже такого рода может высветить нечто важное, редко, но может. Речь ведь не о конвейерной смерти, фундированной идеологией, или политикой, или даже религией, речь о том, что было, к примеру, пятьдесят тысяч человек (или несколько миллионов), разных, с разными историями и разными лицами, с разными доходами, сексуальными и кулинарными привычками, а потом – раз, будто корова языком слизнула. И тут есть два варианта: либо обсуждать породу коровы и все оттенки шершавости ее языка, либо сосредоточиться на самуй ситуации слизывания, мол, как такое могло произойти? Первым вариантом занялся после 1755 года юный Кант, выпустив брошюру о геологических причинах катастрофы; зрелого Вольтера более интересовал второй – у него получилось, что не все к лучшему в этом лучшем из миров. Кто бы спорил, старина.
Ознакомительная версия.