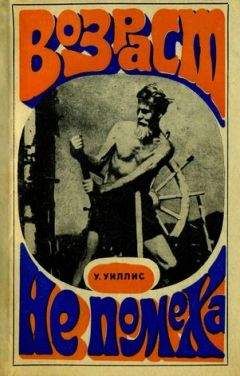— Мы давно его миновали.
Куда мы направлялись? Я был слишком слаб, чтобы о чем-нибудь размышлять, говорить или беспокоиться. Мне захотелось пить, и Жюль зачерпнул ржавой банкой воду из реки. Но после первого же глотка меня вырвало. И, как это бывает с больными желтой лихорадкой, я то и дело пил, и рвота не унималась. За несколько часов я проглотил и изрыгнул галлоны воды. Жюль ни разу не отказал мне. Почти все время я был не в себе.
Жюль работал веслами всю ночь напролет. Он остановился только один раз, чтобы поесть, причем привязал лодку к дереву, которое нависло над разбухшей от дождей рекой. Утром мы причалили к берегу вблизи от негритянской деревушки.
Жюль оставил меня в каноэ и через некоторое время вернулся со знакомым ему вождем племени.
— Этот человек тяжело болен лихорадкой, — на бушменском наречии сказал ему Жюль.
— Я вижу, он сильно болен, — ответил вождь.
— Спаси ему жизнь — для этого я и пришел к тебе.
— Попробую, но уж очень он болен, — ответил вождь.
Двое негров спустились к каноэ и, подняв меня, перенесли в пустую хижину, у которой стенки не доходили до земли. Они уложили меня на циновку, разостланную на толстом слое листьев. Затем пришла старуха бушменка и уселась на корточках возле меня на голой земле. Она давала мне воды, когда я просил пить. А в это время несколько бушменов, вооруженных стрелами и луками, направились в джунгли. Когда они вернулись, вождь приступил к лечению.
Негры взяли расцвеченного всеми цветами радуги амазонского попугая, разрубили его живьем на две части и, не вынимая внутренностей, приложили теплое кровавое мясо к моим пяткам. Затем они плотно забинтовали ноги листьями, накрепко перевязав их стеблями травы. Когда через три часа повязки сняли, розоватое мясо попугая приняло ядовитый черновато-зеленый цвет. Затем был разрублен другой попугай и прибинтован к моим ногам. Несколько дней подряд каждые три часа повторялась такая операция; с каждым разом снятое с ноги мясо попугая принимало более нормальную окраску. Все эти дни, когда я просил есть, мне давали пить бульон из обезьяньего мяса. А по ночам, когда появлялись москиты, разжигали костры, на которых сжигались листья целебных растений, и этот запах усыплял меня.
Наконец негры сделали анализ крови, которую выдавили из пиявки, снятой с моей руки. Кровь влили в сосуд с водой, и она легла тонким слоем на поверхности. Я выжил. Когда кровь опускается гнойными нитями на дно, это значит, что лихорадка еще сидит в человеке.
Бушмены[56] спасли меня, хотя у меня уже начиналась предсмертная черная рвота…
Теперь, лежа на плоту, я отчетливо видел перед собой встававшее из прошлого лицо Жюля. Сейчас он был для меня связующим звеном между минувшими днями и тяжелым испытанием, выпавшим на мою долю здесь, в широких океанских просторах.
В дни, последовавшие за выздоровлением, я отдавался воспоминаниям.
Я родился в Гамбурге и еще малышом, когда мне было всего четыре года, подолгу простаивал на берегу реки, глазея на шумный порт и терявшийся в дымке горизонт.
Помнится, однажды я забрался в шлюпку и отвязал ее от причала. Пока я пытался справиться с веслами, которые были слишком велики для моих ручонок, отлив подхватил лодку и потащил ее вниз по реке.
Проходившие мимо буксиры и паромы чуть не опрокинули мое беспомощное суденышко. Но вот на меня обратили внимание матросы, грузчики и портовые рабочие. Наконец ко мне подошел полицейский катер.
— Куда держишь путь, малыш?
— Я плыву в Америку.
— Вот как!
И мы направились в полицейский участок, куда спустя несколько часов вбежала моя обезумевшая от горя мать с криком: «Пропал мой сынишка!..»
— Вы лучше подержите его некоторое время на привязи: ведь когда мы схватили его, он уже находился на полпути в Америку, — сказали ей полицейские.
Прошли еще годы, прежде чем я увидел море. Порт все время жил у меня в памяти, как нечто прекрасное и романтическое, и я непрестанно мечтал о далеких горизонтах, о неведомых морях.
Когда мне было двенадцать лет, я должен был выбрать стихотворение, чтобы прочесть его перед всем классом. Я мечтал о поэме, правдиво живописующей ярость моря, которого еще никогда не видел своими глазами. Такую поэму я написал сам. Наконец, пятнадцати лет, мне суждено было отправиться в открытое море на паруснике.
Боль в солнечном сплетении все еще давала о себе знать. Я управлял плотом и наблюдал за парусом, но по большей части находился в каком-то полусознательном состоянии, как бы сливаясь с жизнью природы. Я был слишком слаб, чтобы предаваться долгому раздумью.
Прошла уже неделя с тех пор, как на меня напала болезнь. Я был близок к смерти — об этом красноречиво говорило мое лицо. Щеки впали, а скулы обострились, шея была похожа на связку веревок, обтянутых кожей, морщинистой, как у старого аллигатора. Кожа обвисла складками; а ведь я всегда был худым, без единой унции лишнего веса. Однако мой теперешний вид не слишком меня беспокоил, хуже всего была слабость.
За все годы, проведенные мною на море и на суше, я никогда не переживал ничего похожего. Лежа на бамбуковой палубе и размышляя о том, что случилось со мной, я так и не смог подыскать объяснения моей болезни.
Я находился на расстоянии 650 миль от Галапагосских островов и в 1650 милях от Кальяо.
Одиночество странно действовало на меня. Оно обладало каким-то очарованием, которое все возрастало. Все больше свыкаясь с ним, я не желал никаких перемен в своем положении. С меня было довольно моря и неба. Теперь я понимал, почему испытавшие одиночество люди всегда стремятся к нему, негодуют на тех, кто нарушает их уединение. Но с одиночеством связаны и минуты страданий, когда тобой овладевает смутная тревога от сознания, что ты живешь на краю бездны. Человек нуждается в общении с себе подобными, ему необходимо с кем-нибудь разговаривать и слышать человеческие голоса.
Теперь я плыл, держа курс по пятой параллели; это позволит мне пройти в ста милях севернее Маркизских островов. До них было еще около трех тысяч миль, и я не спешил с окончательным выбором курса.
Мне оставалось очень мало времени для сна; лишь на краткие минуты я забывался, зачарованный лунным светом. Днем и ночью я чувствовал, что становлюсь частью природы.
Вне всякой связи с настоящим я увидел себя кочегаром на ливерпульском грузовом судне «Линровэн». Мой товарищ, работавший у соседней топки, плевался кровью, но продолжал из последних сил, какие еще сохранились в его обнаженном тощем теле, шуровать уголь.