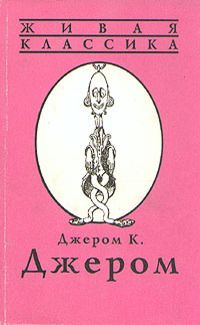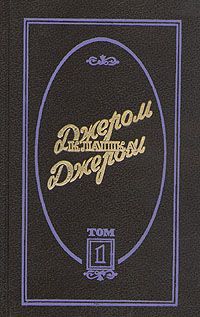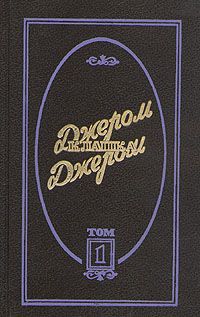— Я не знаю. Мне все равно! — отвечал Гаррис. — Я честно старался, а ты только ворчал и смущал меня все время.
— Может быть, я действительно отнесся к тебе слишком строго, — признал Джордж, — но взгляни на дело с моей точки зрения: один из вас говорит, что обладает каким-то безошибочным инстинктом — и приводит в чащу леса, прямо к осиному гнезду.
— Я не виноват, что осы устраивают гнезда в чаще леса, — перебил я.
— Я в этом тебя не виню и вовсе не спорю; я только излагаю факты. Другой — водит меня вверх и вниз по горам в продолжение нескольких часов «на научном основании», не зная где юг, где север, и не помня, поворачивал он направо или не поворачивал!.. У меня нет ни сверхъестественных инстинктов, ни глубоких научных познаний; но я вижу отсюда человека, который собирает в поле сено: я пойду и предложу ему плату за весь стог — вероятно, марки полторы, не больше — за то, чтобы он бросил работу и довел меня до Тодтмоса. Если вы хотите следовать за мной, можете; если же намерены делать еще какие-нибудь опыты, то тоже можете, но только без меня.
План Джорджа был не блестящий и не оригинальный, но в ту минуту показался нам привлекательным. К счастью, мы недалеко отошли от дороги в Тодтмос и с помощью косаря прибыли туда благополучно четырьмя часами позже, чем предполагали накануне. Для того, чтобы удовлетворить аппетит, нам понадобилось сорок пять минут молчаливой работы.
У нас было решено пройти от Тодтмоса к Теину пешком; но после утомительного утреннего похода мы предпочли нанять экипаж и прокатиться. Экипаж был живописный; лошадь можно было бы назвать бочкообразной, но в сравнении с кучером она была совсем угловатая. Здесь все экипажи делаются на две лошади, но впрягается обыкновенно одна; вид получается довольно неуклюжий, но зато такой, как будто вы всегда ездите на паре лошадей и только в этот раз случайно выехали на одной. Лошади здесь очень опытные и развитые; кучера большею частью спокойно спят на козлах, и если бы можно было отдавать лошадям деньги, то никаких кучеров не требовалось бы вовсе. Когда последние не спят и звучно щелкают бичом — я не чувствую себя в безопасности. Однажды мы катались в Шварцвальде с двумя дамами; дорога вилась, как пробочник по крутому склону горы; откосы приходились под углом в семьдесят градусов к горизонту. Мы ехали вниз тихо и спокойно, видя с удовольствием, что возница спит, а лошади уверенно спускаются по знакомой дороге. Вдруг его что-то разбудило — недомогание или тревожный сон: он схватился за возжи и быстрым движением направил лошадь, приходившуюся с наружной стороны, к самому краю дороги; дальше идти ей было некуда, и она сползла вниз, повисши на вожжах и постромках. Возница ничуть не удивился, лошади нисколько не испугались. Мы вышли из экипажа, кучер вытащил из-под сиденья большой складной нож, очевидно предназначенный для этой цели, и спокойно, не колеблясь, перерезал постромки. Освобожденная лошадь скатилась на пятьдесят футов вниз, до следующего поворота дороги, и встала на ноги, ожидая нас. Мы сели снова и доехали до того места на одном коне; а там возница запряг ожидавшую лошадь, использовав несколько кусков веревки, и катанье продолжалось. Интереснее всего было полнейшее спокойствие всех троих — кучера и обоих коней; видимо, они так привыкли к подобному сокращению пути, что я не удивился бы, если б он нам предложил скатиться целиком со всем экипажем.
Меня поражает еще одна особенность немецких кучеров; они никогда не натягивают и не отпускают вожжей. У них для регулирования езды есть тормоз — а скорость хода лошади их не касается. Для езды по восьми миль в час — возница закручивает ручку тормоза не много, так что он только слегка исцарапывает колесо, производя звук словно пилу оттачивают; для четырех миль в час — он закручивает сильнее, и вы едете под аккомпанимент жутких криков и стонов, напоминающих хор недорезанных свиней. Желая остановиться совсем, кучер завинчивает ручку тормоза до упора — и он останавливает лошадей раньше, чем они пробегут расстояние, равное длине своего корпуса. То, что можно остановиться иным, более естественным способом, очевидно не приходит в голову ни кучеру, ни самим лошадям; они добросовестно тянут изо всей силы до тех пор, пока не могут сдвинуть экипаж ни на полдюйма дальше; тогда они останавливаются. В других странах лошади могут ходить даже шагом; но здесь они обязаны стараться и бежать рысью; остальное их не касается. На моих глазах один немец бросил вожжи и принялся усиленно закручивать тормоз обеими руками — боясь, что не успеет разминуться с другим экипажем. Я нисколько не преувеличиваю.
В Вальдсгете — одном из маленьких городков шестнадцатого столетия, расположенном в верховьях Рейна, мы встретили довольно обыкновенное на континенте существо: путешествующего британца, удивленного и раздраженного тем, что иностранцы не могут говорить с ним по-английски. Когда мы пришли на станцию, он объяснял носильщику в десятый раз «самую обыкновенную» вещь, а именно: что хотя у него билет куплен в Донаушинген, и он хочет ехать в Донаушинген посмотреть на истоки Дуная (которых там нет: они существуют только в рассказах), — но желает, чтобы его велосипед был отправлен прямо в Энген, а багаж в Констанц. Все это было по его мнению так просто! А между тем носильщик, молодой человек, казавшийся в эту минуту старым и несчастным, довел его до белого каления тем, что ничего не мог понять. Джентльмену стало даже жарко от чрезмерных усилий втолковать носильщику суть дела.
Я предложил свои услуги, но скоро пожалел: соотечественник ухватился за предложенную помощь слишком ревностно. Носильщик объяснил нам, что пути очень сложны — требуют многих пересадок; надо было узнать все обстоятельно, а между тем наш поезд трогался через несколько минут. Как всегда бывает в тех случаях, когда времени мало и надо что-нибудь разъяснить, джентльмен говорил втрое больше, чем нужно. Носильщик, очевидно, изнемогал в ожидании освобождения.
Через некоторое время, сидя в поезде, я сообразил одну вещь: хотя я согласился с носильщиком, что велосипед джентльмена лучше отправить на Иммендинген — как и сделали — но совершенно забыл дать указание, куда его отправить дальше, из Иммендингена. Будь я человек впечатлительный, я бы долго страдал от угрызений совести, так как злополучный велосипед, по всей вероятности, пребывает в Иммендингене до сих пор. Но я придерживаюсь оптимистической философии и стараюсь видеть во всем лучшую, а не худшую сторону; быть может, носильщик догадался сам исправить мое упущение, а может быть, случилось простенькое чудо, и велосипед каким-нибудь образом попал в руки хозяина до окончания его путешествия. На багаж мы наклеили ярлык с надписью «Констанц», а отправили его в Радольфцель — как нужно было по маршруту; я надеюсь, что когда он полежит в Радольфцеле, его догадаются отправить в Констанц.