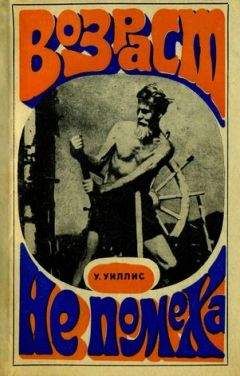После болезни я стал по временам мучительно ощущать свое одиночество. Чего-то недоставало мне, и я уже не был счастлив, как прежде. Каждое утро я с восторгом встречал рассвет и весь день любовался красотами окружающего мира. Но порой становилось тоскливо на душе.
И вот однажды я запел и сразу же понял, что все мое существо жаждало песни. Какую радость доставило мне это открытие! Теперь я был уверен, что преодолел последнее препятствие на своем пути. Теперь я встречу все напасти песней. Я вспомнил, что и раньше, бывало, пел, когда жил в одиночестве в различных частях света. Но никогда пение еще не действовало на меня так сильно, как сейчас. Когда я боролся с канатами или раскачивался высоко на вантах, распутывая снасти и ставя паруса, я во все горло начинал распевать какую-нибудь старинную матросскую песню, давно позабытую и теперь вновь пришедшую на память. Я бросал в этой песне вызов ветрам и стихиям. Пение облегчало мне работу.
Не поможет ли песня и другим людям, плывущим в одиночестве по морям? Конечно, тут дело было не в достоинствах моего голоса, ибо, должен признаться, я пел не лучше Икки.
Да, люди боятся одиночества. Для большинства людей в Соединенных Штатах, в Эквадоре и Перу было совершенно непонятно, почему я отправляюсь в плавание один, и предприятие мое представлялось им крайне неразумным. Многие считали, что одиночество приведет меня к сумасшествию. Служащие военно-морской базы в Кальяо, хорошие, испытанные моряки, постоянно задавали мне вопрос: «Solo, senor?»[61]
В прежнее время на Аляске людей, на которых дурно действовало одиночество, каждую весну насильно увозили из уединенных мест. А между тем это были люди железного здоровья, которые переносили невероятные трудности, роясь в мерзлой земле в поисках золота. Это были много повидавшие на своем веку ветераны золотых приисков Австралии, Новой Гвинеи, Калифорнии и Южной Америки.
Мне припомнился один вечер в горах Аляски. Я пришел к бревенчатой хижине золотоискателя, стоявшей на берегу реки Хилей, надеясь там переночевать и отдохнуть, чтобы с новыми cилами двинуться дальше. Но вот в дверях появился мужчина с полуседой бородой и устремил на меня пристальный взгляд. Вид у него был совсем одичалый. Меня обступили со всех сторон лайки, обнюхивая и злобно рыча.
— Ты что-то не по нраву пришелся моим собакам, — проворчал он. — Какого дьявола люди приходят сюда мне докучать! Проваливай! Держи путь на факторию. — И резким движением руки он указал в сторону долины. — До нее не больше пятнадцати миль. А мне все равно нечем тебя кормить.
И он захлопнул дверь у меня под носом. Взвалив на спину свою ношу, я отправился по тропе, все время чувствуя себя на мушке его винтовки калибра 30–30. Я слышал, как, захлопывая дверь, он буркнул:
— Будьте все вы прокляты!
На фактории мне сказали, что ближайшей весной золотоискателя увезут из этих мест.
— Вы еще дешево отделались от него. Он наверняка выстрелил бы в вас, если бы вы ударили одну из его собак. Да, его заберут отсюда весной. И здесь он не один такой.
Во Французской Гвиане я встречал каторжников, переживших одиночное заключение. Они были приговорены на сроки от одного года до четырех лет. Редко кто из них выходил в здравом уме. В камерах тюрьмы на острове Сен-Жозеф заключенные могли хотя бы слышать шаги часового, расхаживавшего по тюремной галерее, слышать его голос и даже видеть его; могли слышать стоны людей в других камерах или прислушиваться к условному перестукиванию через стены. Хотя они страдали, но все же не считали себя совсем отрезанными от мира людей. Те же, которые сидели в строгом заточении, сходили с ума.
Ужас овладевает человеком, который затерян в бескрайном водном пространстве. В прошлую войну многие моряки в одиночестве носились по океану в шлюпке или на плоту после того, как их товарищи погибли от ран или голода. Мне пришлось плавать с такими матросами, и я знал, что с ними произошло. Мы так и говорили про них: «Помешались на плоту».
Ночь уже прошла. Я сидел у штурвала и ел свой завтрак, состоявший из сырой печенки только что пойманного мною двадцатипятифунтового дельфина и из куска его филе в полфунта весом. Печенку и филе я вымочил в лимонном соке. Не слишком аппетитная еда!
В это утро океан вокруг плота так и кишел акулами, но дельфинов не было видно. Летучая рыба упала на палубу, и, насадив ее на крючок, я забросил леску в воду. Наживка была мгновенно схвачена дельфином, который пронесся под водой, как белая стрела. За дельфином устремилась чуть ли не дюжина акул. Я легко вытащил дельфина из воды. Но, очутившись на палубе, он стал неистово биться, стараясь уйти обратно в воду.
Пока я свежевал дельфина и мыл палубу, Микки тихонько сидела, отвернувшись от меня. Затем она приблизилась, чтобы получить свою долю.
Услышав вой ветра и заглянув за бизань, я увидел длинную черную пелену туч — признак приближающегося шквала, который находился еще примерно в полумиле от плота. Чем больше ветра, тем скорее идет плот! Я приветствовал шквалы, помогавшие мне определить надвигавшуюся полосу ураганов.
Вчера я пересек 116-й меридиан. Запись в вахтенном журнале гласила: «8 августа, 14 часов 51'20» по восточно-стандартному времени; высота солнца 68°10′5»; 5°29′ южной широты и 116°14′ западной долготы. Пройдено за день 62 мили. Легкий ветер».
Знаменитый путь, по которому в течение столетий проходили парусники, державшие курс на север от мыса Горн в Сиэтль, Ванкувер, Портланд или Сан-Франциско, — эти знаменитые в былые дни порты, лежащие между 120-м и 125-м меридианами.
Когда-то, еще мальчишкой, я плавал на борту гордого парусника, оставлявшего за собой пенный след в течении Гумбольдта и летевшего под пассатом с поставленными бом-брамселями[62] и лиселями[63], и теперь мне виделось это судно, словно гигантский призрак на фоне облаков.
Куда делись они, эти могучие парусные суда, плававшие на север от мыса Горн, из европейских портов и с атлантического побережья? Их нет больше, они затонули под приливами времени вместе с плававшими на них железными людьми. Они выбиты с океанов артиллерийским огнем, штормами или разбиты на скалах подветренных берегов. Их нет больше! В Америке несколько уцелевших парусников заняты перевозкой гуано из Перу. Они курсируют вверх и вниз вдоль побережья. Теперь это старые, не годные к плаванию суда, хотя они все еще несут паруса…
Акулы так и сновали вокруг плота. Длинный Том все еще был здесь, он окончательно стал моим постоянным спутником. Он держался у самого борта плота, все на том же месте, двигаясь, словно тень, и не спуская с меня глаз. Конечно, я мог бы избавиться от него, поймав на крючок, но я решил не заниматься ловлей акул; от них на плоту бывает большой беспорядок. Кроме того, я не хотел создавать на «Семи сестричках» атмосферу убийства. Достаточно того, что приходилось заниматься ловлей дельфинов. Всякий раз, как я вытаскивал дельфина из воды, мне было не по себе — жалко было уничтожать такую красоту, созданную природой. Но со мной была Микки, стоявшая словно безработный в очереди за бесплатным питанием.