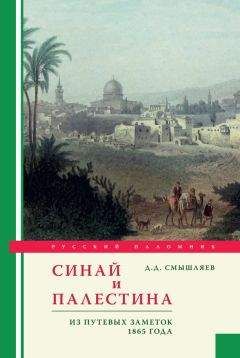Ознакомительная версия.
В продолжение всего XVIII столетия поклонники христиане не смели проходить чрез негостеприимную страну. Жюно, после Фаворской битвы, выжег окрестные деревни, но не мог завладеть городом[74]. Железная рука Ибрагима-паши[75], однако же, сладила с ним, и вспыхнувшее в 1834 году возмущение наплузцев было быстро подавлено. С возвращением под турецкое владычество <в 1840 году> анархия снова воцарилась в Наплузе, и в настоящее время этот город беспрестанно бунтует против акрского и дамасского пашей, от которых поставлен в зависимость. Несмотря на это, Наплуза представляет один из самых промышленных и цветущих городов Палестины. Многие дома его построены в три и четыре этажа, что составляет большую редкость на Востоке; постройки вообще красивы и прочны. В городе много прекрасных садов, которые отлично содержатся. Жителей в настоящее время считается до трех тысяч, между которыми до пятисот греков, сто тридцать восемь самаритян, пятьдесят евреев и несколько протестантов. Главные предметы торговли составляют хлопок, масло и, особенно, мыло, которое вывозится отсюда в большом количестве.
Интерес путешественника сосредоточивается здесь преимущественно на самаритянах, об истории которых и вероисповедании была речь выше. Здесь живет единственный уцелевший остаток этого народа, да и тот каждогодно уменьшается в числе. В настоящее время (1865 год), по словам моего хозяина Якоба Шаляби, всех самаритян, мужчин и женщин, старых и малых, считается сто тридцать восемь душ, между которыми девяносто мужчин. Недостаток женщин составляет главное их горе, ибо жениться на иноверках, хотя бы на еврейках, закон им строго воспрещает. В последнее время блеснул было в этом отношении для них луч надежды, но напрасно.
В Наплузу приезжал известный ученый караим Фиркович[76]. Караимы по своему вероисповеданию ближе евреев к самаритянам, и потому последние решились на отступление от буквы закона, задумав войти в родственные отношения с караимами; они слезно просили Фирковича прислать им нужное число женщин из Крыма. Фиркович, которому интересны были самаритянские рукописи, будто бы обещал исполнить такое желание, но приобретя, что ему требовалось, по словам моего хозяина, забыл о своем обещании. Самаритянские холостяки снова загоревали по этому случаю о своем одиночестве. Нужно было видеть, с каким жадным любопытством расспрашивали они меня о Фирковиче, особенно когда я им сообщил, что, по словам иерусалимского консула, он должен быть в Дамаске!
Самаритяне живут в особом квартале, в местности, названной будто бы еще Иаковом Галкат-Ассамара (Библейско-биографический словарь Яцкевича и Благовещенского)[77]. Дома их не только бок о бок, но, так сказать, составляют один общий для всех их дом, имея между собою внутреннее сообщение. Жилые покои содержатся в большой чистоте; полы блестят как полированный мрамор и очень красивы; они покрываются, вместо краски, массой из разбитых льняных охлопков в смеси с вареным маслом и мелко истолченной известью. Едва ли только эта масса долго служит и не требует частых поправок. В комнате, где я помещался, поставлены вокруг стен широкие диваны, покрытые полосатыми красивыми тюфяками, с такими же спинками и подушками. Широкие окна защищены частыми решетками, но без стекол. Часть комнаты у входа занята палатами, раскрашенными и украшенными узорочном деревом. На них хранятся хозяйские вещи, которые подороже. Потолок имеет форму невысокого купола. Лепная работа на нем и фигуры, сделанные краской на деревянных принадлежностях, изображают витушки разных форм, пальмы и седьмисвещники. Это приемная комната. В семейных же комнатах нет положительно никакой мебели; ее заменяют тюфяки и ковры, разостланные на полу.
Две или три самаритянки, в том числе и жена хозяина, весьма красивы; особенно они показались мне такими в своих праздничных костюмах, в которые оделись, отправляясь молиться на гору. На них были широкие, стянутые у щиколотки панталоны, широкий шелковый кушак, богато вышитая золотом куртка, перетянутая у стана и разрезанная спереди так, что совершенно обнаженные груди, которыми они очень гордятся, выставлены наружу. На шее надето множество ожерелий из разных камней и янтаря; лоб покрыт сплошь золотыми монетами; сзади спускается сетка из таких же монет, прикрывая собой роскошные косы.
Хозяин мой говорит по-английски. Какой-то лорд возил его в Лондон; этот случай составляет гордость Якоба, прибавившего по возвращении домой к своему имени прозвание Шаляби, то есть почетный, знатный. Теперь он полон самых честолюбивых надежд. По его словам, Фиркович обещал его представить нашему Государю, и он ждет не дождется, когда тот исполнит свое обещание. На этом не останавливаются его виды; у него есть мысль сделаться русским консульским агентом в Наплузе, хотя он не знает ни слова по-русски и не изъявляет желания узнать этот язык, по крайней мере, настолько, как английский, которому он учит своего сына, пяти– или шестилетнего ребенка.
Знатный Якоб при своем неизмеримом честолюбии порядочный плут. Надоев мне рассказами о своем настоящем и ожидаемом величии, он стал приставать ко мне с предложением купить у него рукописи. Сколько я ни уверял, что они мне бесполезны, так как я самаритянского языка не знаю, он притащил-таки мне старую книжонку и запросил за нее всего сто меджидие, то есть около трехсот девяноста франков, уверяя, что уступает ее даром; не раньше как через час он съехал на двадцать франков; но когда я и на эту цену не согласился, то он вырвал из нее листок и, подавая мне, сказал, что дарит его на память о Якобе, почетном человеке. Эта рукопись на козлиной шкуре сохраняется у меня как образчик самаритянских письмен.
После неудачной попытки с рукописями был мне предложен огромный кусок мыла местного изделия, фунтов в десять весом. И на это предложение я наотрез отказал, высказав наконец по этому поводу свое неудовольствие. Тогда почтенный самаритянин вынул из кармана книжку, прося вписать что-нибудь на бедных. Я дал пять франков, будучи доволен тем, что это положит конец дальнейшим поползновениям Якоба на мой кошелек. В возмездие же за листок, вырванный из бесценной книжки, я предложил почетному человеку большой стакан раки, хотя и знал, что закон строго воспрещает хозяину есть и пить с иноверцами. Почетный человек оглянул комнату: оказалось, что, кроме нас, в ней никого не было; тогда он молча взял стакан, вытянул его в один дух, обтер усы, поджал под себя ноги и, тотчас же закрыв глаза, вскоре начал прихрапывать. Я обрадовался случаю набросать в альбоме внутренность комнаты и записать кое-какие заметки о Наплузе…
Ознакомительная версия.