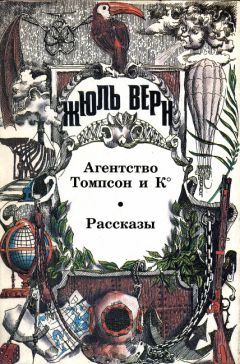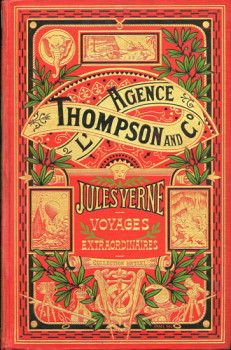Только у собора дамы оставили свои гамаки. Это здание XV века потеряло весь свой характер от последующих побелок, которые постоянно возобновляла местная администрация в заботах о сохранении памятника.
Что касается других церквей, то Робер утверждал, что они не заслуживают особенного внимания; поэтому решили воздержаться от посещения их и направились к францисканскому монастырю, в котором, по словам переводчика, находилась одна достопримечательность.
Чтобы добраться до этого монастыря, туристы должны были пройти почти через весь город. Обрамленные белыми домами с зелеными решетчатыми ставнями и железными балконами, улицы, одинаково извилистые, следовали одна за другой, лишенные тротуаров и вымощенные теми же неумолимыми булыжниками. В нижних этажах заманчиво открывались магазины, но при виде их бедных витрин сомнительно было, чтобы даже наименее разборчивый покупатель вышел оттуда удовлетворенным. Некоторые из этих магазинов предлагали любителям сувениры Мадейры. Это были вышивки, изделия из листвы американского алоэ, циновки, маленькие вещицы наборной работы. В лавках ювелиров громоздились кучи браслетов в форме эклиптики с выгравированными на ней знаками Зодиака.
Время от времени надо было посторониться, чтобы пропустить какого-нибудь проезжего, направлявшегося в противоположную сторону. Он обыкновенно был в гамачке, иногда верхом на лошади, и в этом случае за ней следовал неутомимый арьеро, в обязанности которого входило отгонять москитов.
Арьеро – специальный тип жителей Мадейры. Никогда он не отстает. Он бежит, когда лошадь идет рысью, скачет – когда она идет галопом, и никогда не жалуется, каковы бы ни были скорость и продолжительность езды.
Иногда же катающийся чванно восседает под непромокаемым навесом карро – экипажа на полозьях, скользящего по гладким камням. Влекомое быками с колокольчиками на шее, карро двигается с осторожной медлительностью, управляемое мужчиной и предшествуемое мальчиком, который исполняет обязанности форейтора.
– Два больших выряженных быка медленным шагом… – начал Рожер, подгоняя известные стихи Буало.
– …катают в Фуншале лентяя-англичанина, – закончил Робер, довершив искажение.
Мало-помалу, однако, характер города менялся. Магазины встречались реже, улицы становились более узкими и кривыми, мостовые – еще более непримиримыми. В то же время подъем усиливался. Начинались бедные кварталы, где дома, прислонившись к скале, показывали через открытые окна свою жалкую обстановку. Эти мрачные и убогие жилища объясняли, почему население острова косят болезни, которые и не должны бы быть известны в этом благодатном климате: золотуха, проказа, не говоря уж о чахотке, занесенной сюда приезжающими лечиться англичанами.
Носильщики гамаков не смущались крутизной спуска. Они продолжали идти ровным шагом, по пути обмениваясь приветствиями.
В этих крутых местах уже не попадались карро; их заменяли своего рода сани, удивительно приспособленные к этим горным склонам, – так называемые карино. Каждую минуту они проносились, скользя со всей скоростью и управляемые двумя сильными мужчинами с помощью веревок, укрепленных впереди.
Дамы сошли наземь перед францисканским монастырем, почти в конце подъема. Возвещенная достопримечательность состояла из обширного помещения, служившего часовней и по стенам инкрустированного тремя тысячами человеческих черепов. Впрочем, ни чичероне, ни погонщики не могли объяснить путешественникам происхождения этого причудливого сооружения.
После того как вдоволь насмотрелись на «достопримечательность», стали спускаться по склону, и оба пешехода скоро отстали, не будучи в состоянии следовать рядом по мостовой, для которой они не жалели самых крепких эпитетов.
– Какой ужасный способ мостить улицы! – вскрикнул Рожер, остановившись. – Имеете ли вы что-нибудь против того, чтобы передохнуть с минуту или по крайней мере умерить шаг?
– Я собирался предложить вам это, – отвечал Робер.
– Прекрасно. И я воспользуюсь нашим одиночеством, чтобы попросить вас кое о чем.
Рожер напомнил тогда приятелю, что г-жа Линдсей и он намерены предпринять на другой день экскурсию вглубь острова. Во время этой экскурсии переводчик необходим, и Рожер рассчитывает, мол, на своего нового друга.
– То, что вы хотите, очень трудно, – возразил Робер.
– Почему? – спросил Рожер.
– Да потому, что я принадлежу всем туристам, а не нескольким из них.
– Мы не будем составлять отдельной партии, – ответил Рожер. – Кто захочет, тот и пойдет с нами. Что же касается остальных, то им не нужен переводчик в Фуншале, где все говорят по-английски; притом же этот город можно осмотреть в два часа вместе с часовней с черепами. Впрочем, все зависит от Томпсона, с которым я поговорю сегодня вечером.
У подножия склона французы догнали своих дам, остановленных довольно многочисленным сборищем. Внимание, казалось, привлекал один дом, откуда доносились крики и возгласы.
Вскоре кортеж выстроился и прошел перед туристами под звуки игривой музыки и веселых песен.
Рожер издал крик удивления.
– Но… но… Господи прости! Да ведь это похороны!..
В самом деле, вслед за первыми рядами процессии четыре человека несли на плечах какие-то носилки, на которых покоилось вечным сном маленькое тело девочки.
Со своего места туристы ясно видели все подробности: лицо, окруженное белыми цветами, сомкнутые глаза, сложенные руки трупа, который несли таким образом в могилу, среди всеобщего веселья.
Нельзя было и думать, что это какая-нибудь другая церемония, невозможно было усомниться, что девочка была мертва. Нельзя было ошибиться, смотря на этот пожелтевший лоб, на заострившийся нос, на выступавшие из-под платья окоченелые ноги, на полную неподвижность маленького существа.
– Что за загадка такая? – пробормотал Рожер, между тем как толпа медленно текла.
– Тут нет ничего загадочного, – ответил Робер. – Здесь, в этом набожном и католическом крае, верят, что дети, будучи свободны от всякого греха, после смерти занимают место рядом с ангелами небесными. Зачем же тогда оплакивать их? Не должно ли, Напротив, тем более радоваться их смерти, чем более любили их при жизни? Отсюда веселые песни, которые вы только что слышали. После церемонии друзья семьи явятся толпой поздравлять с покойницей родителей, которые еще с трудом подавляют в душе свое человеческое, неодолимое горе.
– Какой странный обычай! – сказала Долли.
– Да, – пробормотала Алиса, – странный. Но красивый, нежный, утешительный также.