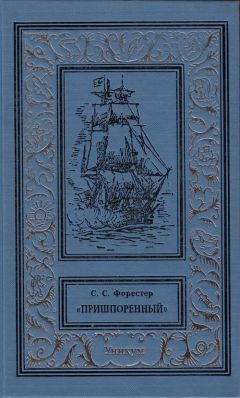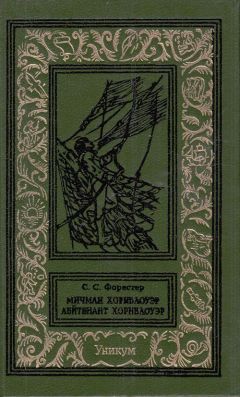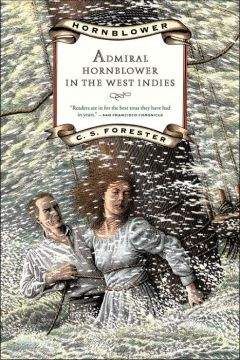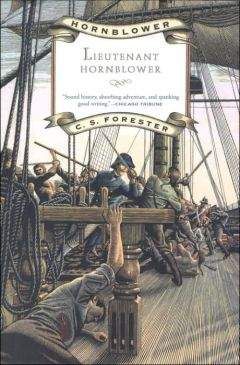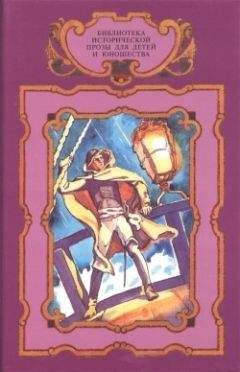Луара по-прежнему стояла высоко. Водопад, в котором он однажды едва не погиб, и благодаря которому впервые встретился с Мари, представлял собой обрамленный пеной поток бурлящей зеленой воды. Он слышал его звук, будучи в объятиях Мари в ее комнате в башне, частенько они прогуливались возле него, и Хорнблауэр мог смотреть на водопад без дрожи и трепета. Все осталось позади. Разум говорил ему, что он — тот самый человек, который брал на абордаж «Кастилью», смотрел в глаза гневу Эль Супремо, дрался не на жизнь, а на смерть в бухте Росас, расхаживал по залитым кровью палубам, и все же у него не исчезало ощущение, что все это происходило с кем-то другим. Теперь он был человеком мирным, праздным, и водопад не воспринимался как нечто, что могло угрожать его жизни.
Поэтому добрые вести, принесенные графом, были восприняты вполне естественно.
— Граф Артуа разбил Бонапарта в сражении на юге, — сказал он. — Наполеон бежал, и скоро его схватят. Это сообщают из Парижа.
Все так, как должно быть: время войн миновало.
— Полагаю, вечером не помешает устроить праздничный костер, — заявил граф. И костер был разведен, и поднимались тосты за здоровье короля.
Но не далее, как на следующее утро Браун, поставив поднос с завтраком у постели Хорнблауэра, объявил, что граф желает переговорить с ним как можно быстрее, и не успел он произнести эти слова, как в комнату вошел граф — в халате, непричесанный и осунувшийся.
— Простите за это вторжение, — сказал он, — даже в этот момент старый аристократ не мог оставить хорошие манеры, — но я не в силах был ждать. Плохие новости. Хуже некуда.
Хорнблауэру оставалось только смотреть и ждать, пока граф соберется с силами. Требовалось усилие, чтобы произнести эти слова:
— Бонапарт в Париже. Король бежал, и Наполеон снова император. Вся Франция подчинилась ему.
— А как же проигранная им битва?
— Слухи…ложь. Все ложь. Бонапарт снова император.
Потребовалось время, чтобы осознать, что все это значит. Снова война, это неизбежно. Что бы ни думали другие великие державы, Англия никогда не согласиться терпеть у себя под боком столь могущественного и коварного врага. Англия и Франция еще раз вцепятся друг другу в глотку. С начала последней войны прошло двадцать два года; похоже, потребуется еще двадцать два, чтобы снова низвергнуть Бонапарта с трона. Еще двадцать два года страданий и кровопролития. Невероятно жуткая перспектива.
— Как это произошло? — спросил Хорнблауэр, желая, скорее, выиграть время, чем получить информацию.
Граф беспомощно развел руки.
— Ни прозвучало ни единого выстрела, — сказал он. — Армия целиком перешла на его сторону. Ней, Лабедуайер, Сульт — все предали короля. За две недели Бонапарт прошел от побережья до Парижа. С такой скоростью, словно ехал в карете, запряженной шестеркой лошадей.
— Но народ не хочет его, — запротестовал Хорнблауэр. — Мы все это знаем.
— Народ ничего не значит против армии, — ответил граф. — Новости пришли вместе с первыми декретами узурпатора. Призываются классы 1815 и 1816 годов. Королевская армия распущена, восстанавливается императорская гвардия. Бонапарт снова готов к борьбе против Европы.
В воображении Хорнблауэр представил себя стоящим опять на палубе корабля, придавленным грузом ответственности, окруженным опасностями, одиноким и лишенным друзей. Гнетущая перспектива.
Стук в дверь возвестил о приходе Мари, она также была в халате, ее великолепные волосы рассыпались по плечам.
— Ты уже слышала новости, дорогая? — спросил граф. Он ни словом не обмолвился ни по поводу ее прихода сюда, ни о том, как она выглядит.
— Да, — сказала Мари. — Мы в опасности.
— Действительно, — произнес граф. — Все мы.
Новости были столь потрясающими, что Хорнблауэр просто не имел возможности проанализировать, как они скажутся лично на нем. Как офицера британского флота его немедленно схватят и заключат в тюрьму. Но это не все: много лет назад Бонапарт намеревался предать его суду и приговорить к расстрелу за пиратство. Ничто не помешает ему претворить это намерение в жизнь — у тиранов долгая память. А что будет с графом и Мари?
— Бонапарт теперь знает, что вы помогли мне бежать, — сказал Хорнблауэр. — Он никогда этого не простит.
— Он расстреляет меня, если сумеет схватить, — произнес граф. Он ничего не сказал про Мари, но посмотрел на нее. Бонапарт прикажет расстрелять и ее тоже.
— Нам нужно уходить, — заявил Хорнблауэр. — Страна не может быть пока целиком под контролем Бонапарта. На быстрых лошадях мы успеем достичь побережья…
Побуждаемый недостатком времени, он собрался сбросить с себя одеяло не взирая на присутствие Мари.
— Я буду готова через десять минут, — сказала Мари.
Как только за Мари и графом закрылась дверь, Хорнблауэр выпрыгнул из постели и позвал Брауна. Превращение из сибарита в человека действия потребовало времени, но очень краткого. Переодеваясь, он держал перед мысленным взором карту Франции, воспроизводя в памяти дороги и порты. За два дня стремительной скачки, перебравшись через горы, они могут достичь Ла Рошели. Он надел брюки. Граф — лицо известное, никто не посмеет арестовать его или тех, кто с ним без прямого указания из Парижа, блеф и самоуверенность помогут им прорваться. В секретном отделении его чемодана лежат две сотни золотых наполеонодоров. У графа, наверное, есть еще больше. Этого хватит для подкупа. Можно нанять какого-нибудь рыбака, чтобы он перевез их через пролив, на худой конец, можно украсть лодку.
Унизительно, конечно, бежать, подобно кролику, при первом появлении Бонапарта, это не очень согласовывается с его достоинством пэра и коммодора, но он прежде всего обязан сохранить жизнь и возможность приносить пользу. Глухая ненависть по отношению к Наполеону, нарушителю мира, росла в нем, но ей не под силу было овладеть его сознанием целиком.
Он испытывал скорее обиду, чем ярость. Постепенно негодование, вызванное переменой условий, стало уступать место робким мыслям насчет того, не в состоянии ли он принять более активное участие в начинающейся борьбе, вместо того, чтобы бежать в надежде включиться в нее когда-нибудь потом. Он находится во Франции, в сердце вражеской страны. У него есть прекрасная возможность нанести именно здесь чувствительный удар. Одевая сапоги для верховой езды, он обратился к Брауну:
— А как твоя жена?
— Надеюсь, она поедет с нами, милорд, — спокойно ответил Браун.
Оставив ее здесь, он может не увидеть ее до конца войны — лет двадцать; если останется здесь с ней — попадет в тюрьму.