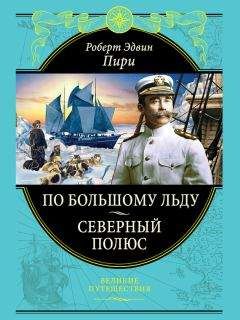— Валентин! — крикнул Махоткин. — Давай обратный курс!
Рассчитал, но пока мы продолжали идти вперед. Нужно было в последний раз попытаться установить связь с «Н-127». Тщетно. Тогда я передал земным радиостанциям курс для Водопьянова, если он повернет, как и мы, или по-прежнему пойдет вперед.
Мы развернулись. Шли бреющим полетом. Благополучно прибыли на мыс Желания. У зимовщиков узнали, что машина Водопьянова молчала со времени вылета. Измотались мы основательно. Настроение преотвратное. Заставили себя поужинать и лечь спать. А утро не принесло перемен. Над зимовкой плясала пурга. Мы готовились но первому зову товарищей вылететь на помощь. Однако прекрасно понимали — сделать это невозможно. Одна мысль, что пурга может продолжаться неделю, а может быть и две, сводила с ума.
Эфир на условной волне был нем.
Двое суток продолжалась нервотрепка молчанием. За это время мы обсудили сотни предположений о местонахождении Михаила Васильевича с товарищами. Сотни вариантов их спасения были отвергнуты, добрый десяток «утвержден».
— Нашелся!
Клич радиста мы восприняли, словно глас небесный. Нетерпеливо вырывали друг у друга листок радиограммы. Но нас ждало разочарование. «Отвечайте, кто меня слушает, ибо мой бр…» — вот и все, что значилось на бланке. Ни координат, ни слова о случившемся.
И все-таки главным было: «Живы!»
Только на третьи сутки с Водопьяновым была установлена устойчивая радиосвязь. Он сообщил, что приземлился на одном из островов Готтерштетера, просил подбросить бензин. Но при проверке его данных: по курсу, который он сообщил, по количеству израсходованного горючего, выходило, что Михаил Васильевич находится не там, где считает, а значительно севернее — на острове Грем-Белл.
Лишь двадцать первого апреля мы покинули мыс «нежеланного ожидания», как в шутку его прозвали, и взяли курс на Тихую. И через три часа двадцать пять минут после тяжелого рейса впервые в истории там приземлился самолет, поднявшийся в Москве. Беспокойство за экипаж «Н-127» помешало нам отпраздновать эту небольшую победу по-настоящему. Махоткин тотчас отдал приказ на заправку, чтобы вскоре отправиться искать товарищей, не знавших точно своего местоположения. Москва, с которой мы связались, поздравила нас с успешным перелетом и засыпала указаниями…
Об отдыхе никто из нас не думал. Я осматривал электроаппаратуру перед вылетом. Как вдруг слышу: гудит в воздухе мотор. Что за чертовщина? Уж не галлюцинация ли? Откуда здесь аэроплан?
— Самолет! Самолет! — закричал Лукич, махая руками в сторону юга.
Сомнения пропали. И я приметил, что на посадку идет машина Водопьянова. Она с ходу пошла на полосу и стала рулить к берегу.
Непомерно огромные в меховой одежде, с обмороженными лицами и руками вывалились на снег Водопьянов, бортмеханик «Н-127» Бассейн и Иванов. Мы обнимали их, толкали и хлопали, они отвечали тем же и все орали что-то радостное и непонятное. Едва не на руках проводили «пропащих» в дом, а потом запихали в баню — оттаивать.
Побритые, чистые и сияющие «пропащие» вместе с нами уселись за стол в кают-компании. И Водопьянов рассказал о таинственной для того времени истории, как радиомаяк завел их на сто восемьдесят километров в сторону от цели. Мы тогда еще ничего не знали ни о ложных зонах, ни о зонах ошибок радиомаяка и, конечно, не умели ни распознавать их, ни бороться с их влиянием. Впечатление было удручающим. Если ни радио, ни тем более магнитные компаса не гарантировали точности курса, то как водить самолеты в высоких широтах? Ведь не всегда же мы будем держаться за меридианы, словно за веревку.
Нервное напряжение последних ночей, проведенных почти без сна, изрядно утомило нас. Двое суток мы отсыпались, словно сурки. Все бы хорошо, да погода в бухте Тихой нам совсем не нравилась: она менялась едва ни с часу на час. Наконец вроде бы установилась, и мы пошли на взлет по льду бухты, твердо уверенные, что все будет в порядке. Сами проверяли толщину льда. А на середине разбега, когда, казалось, машина скользила, будто перышко, правая лыжа провалилась под лед. Самолет начал было тонуть, но, ткнувшись нижним правым крылом в лед, замедлил погружение. В наступившей тишине с противнейшим треском лопнула консоль, расползлось покрытое краской полотно, обнажив несколько искалеченных нервюр.
На Лукича было и больно, и страшно смотреть. Его буквально корежило от каждого звука, точно хрустели его кости и лопалась его кожа, а не деревянные детали и матерчатое покрытие.
Общим авралом выволокли машину на берег.
— Это, пожалуй, уже «ягодки», — протянул Водопьянов. — У нас и оглобель нет, чтобы скрепить крыло.
— Какие еще тут оглобли… — скорее простонал, чем проговорил Лукич.
— Оглобли — это от телеги. Полезная вещь в самолетостроении, — продолжал мрачно шутить командир. — Однажды я приземлился так твердо, что крыло отвалилось. Правда, случилось это не на самой северной зимовке, а во глубине России…
Рассказывая, Михаил Васильевич будто невзначай бродил за Ивашиной и Бассейном, которые щупали поврежденный аппарат с видом опытнейших лошадников. Они совали поочередно руки в «раны», качали головами, языками прищелкивали и вздыхали, вздыхали…
— До ближайшего города целых сто верст, — продолжил Водопьянов, — до железнодорожной станции — еще больше. Впору оставаться зимовать под самолетом. А тут по ближнему проселку подвода едет. Я к возничему. «Где бы, — говорю, — парочку лесин достать?». Он в смех. Кругом степь. Я чуть не в слезы. «Дай, — говорю, — оглобли на время. Мне бы только взлететь». Тороватый попался мужичонко. «Как же ты на оглоблях полетишь? Крыло-то вон сломано». — «Это уж мое дело, ты только оглобли дай». — «А я как же?» — интересуется мужичок. Соврал я человеку, каюсь: «Взлечу — верну». Понимал: не пообещай я вернуть — не даст мужик оглобель. Ни в жисть не даст — сам-то как без них поедет? Воз-то гружен был…
Водопьянова-то я слушал, но видел — при такой поломке, как наша, на Большой земле, не долго споря, заменяли крыло целиком. У нас же запасного, само собой, не было. Откажутся Ивашина и Бассейн от ремонта — загорать нам в Тихой до ледокола, который придет сюда где-то в середине лета.
— Привязал я оглобли к крыльям биплана веревками, посмотрел на дело рук своих… И захотелось мне, братцы, перекреститься перед тем, как в кабину засесть. Сооружение из оглобель выглядело кошмарно. Мужичонко и тот понял. Спасибо ему — осенил он себя крестным знамением. Да не одним, а судорожно так раз двадцать перекрестился…
Бассейн похлопал командира по плечу:
— Ты и взлетел?