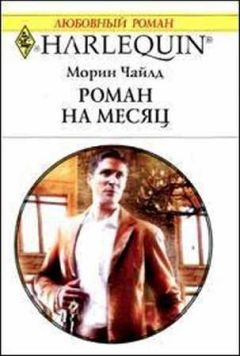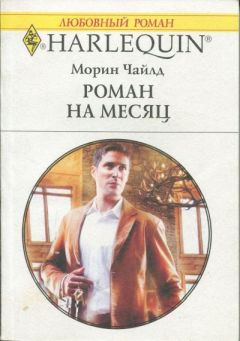Наконец вдали засинел мыс Лемберова. Здесь последнее зимовье на пути к Диксону.
Так и на карте показано: мыс Степана Лемберова. А ведь Лемберова дядя Терень лично знал, не раз с ним подле спиртишка грелся. Был Степан Лемберов простой человек, тобольский плотник и объездчик собак, прожил долгую бродячую жизнь на севере, участвовал в первой экспедиции Циглера на землю Франца-Иосифа, а потом в экспедиции на «Герте», разыскивавшей Седова, жил на Диксоне, построил баню, а в 1920 году умер. На его могиле и сейчас крест из серого плавника, а на карте напечатано его имя.
И деда Кураша имя есть на карте. Может, и бухточку, где живет дядя Терень, когда-нибудь назовут его именем? Все-таки без следа не исчезнет с земли человек, не растает, как снег весною.
Так размышляя о жизни и смерти, подходит дядя Терень к избе Повойниковых.
Согнувшись, входит в низенькие сени, распахивает дверь, из-за которой доносятся крики и плач, и попадает в драку.
Не отскочи он в сторону, быть бы старику покойником: мимо него со свистом проносится табуретка, шлепается о двери и разлетается щепками.
Дерутся братья Повойниковы: у младшего лицо исцарапано в кровь, у старшего по губе течет алая струйка и глаз припух. Бабы визжат и тоже лезут в драку. Баба старшего, худая, злющая, растопырив пальцы, наскакивает на противницу, ее когти страшны; баба младшего, пухленькая, маленькая, в растерзанной кофточке, обороняется чем может, но больше слезами.
— Мир дому сему! — хмуро произносит дядя Терень и сбрасывает мешок с плеч.
Повойниковы сразу стихают. Бабы поспешно застегивают кофточки, младшая прячется за занавеску. Братья вытирают кровь с лица и смущенно отворачиваются. А он молча проходит к столу, медленно опускается на табурет и кладет на стол руки.
— Весна нонче ранняя… — говорит он, словно ничего не видел. — В Широкой лед взломало третьего дня. Белушатники говорят: нынче у Горла лед. — Он обводит избу равнодушным взглядом: поломанные табуретки, поваленные лавки, люльку, в которой младенец плачет, и тем же тоном спрашивает: — Ну? Чего не поделили?
Старший Повойников — огромный, нечесаный, ленивый мужик страшной, тупой силы; младший — проныра и жулик. Вероятно, задирает младший. Он же и бывает битым. Жена старшего — баба-ведьма, жена младшего — овца и дура. Вероятно, заводит старшая, она и подзуживает мужа. Все это дядя Терень знает и спрашивает без надежды помирить братьев и их жен.
Младший Повойников первый начинает выкладывать свои обиды. Говорит он визгливым, бабьим голосом, бросая злые взгляды на брата и на его жену. Старший смущенно молчит, за него говорит его жена. Она всех перекрикивает и сыплет на дядю Тереня ворох сплетен, обид, — все это житейские мелочи, все от шершавости быта. Изба — тесная, а люди — колючие, словно ежи в норе.
В таком деле судьей быть трудно. Но дядя Терень честно пытается разобраться во всем.
— Стойте, граждане, — строго говорит он, надев очки. — Давайте по порядку. Так что ты говоришь, Семен, о капканах?
Но его перекрикивают голоса спорщиков, и он, безнадежно махнув рукой, умолкает и снимает очки.
Спор разгорается с новой силой. Визгливо кричит Повойников-младший, размахивает руками и все время обращается к дяде Тереню, бросая косые взгляды на жену брата. Хрипло ругается жена старшего, шипит из-за занавески жена младшего. Наконец и старший Повойников, все время молчавший, не стерпев, бьет кулаком по столу и орет неведомо что, всех перекрывая своей могучей глоткой. Теперь уж быть драке.
Но дядя Терень, про которого в шуме совсем забыли, слышит плач в углу, встает, подходит к люльке, наклоняется к младенцу и говорит сердито:
— Эх, люди, люди! Дите разбудили… Родители!
Оттого ли, что сказал он это с сердцем, оттого ли, что ссора вдруг выдохлась, но Повойниковы сразу стихли.
И во внезапно наступившей тишине слышно, как плачет ребенок. Он плачет настойчиво и обиженно.
У Повойниковых дядя Терень не задерживается. Некогда, да и не хочется.
В сенях младший брат торопливо сует старику записку.
— Пошли телеграмму, — возбужденно шепчет он, — нехай разведут нас с братом. Убьет он меня.
Старший догоняет дядю Тереня уже за мысом. Он снимает шапку и протягивает старику бумагу. Дядя Терень, не читая, кладет телеграмму в мешок.
— Эх, люди, люди! — качает он головой. — Звери в берлоге.
Повойников смущенно опускает лохматую голову.
— Не осуди! — хрипло просит он и разводит руками.
Долог путь до моря сизого… Эх!
Тяжек путь до острова скалистого… Эх!
Где ты, мачта, где заветная?
Э-эх!
Вот и заветная мачта выглянула из тумана. Вот и черные скалы. А за скалами уж и море сизое. Путь окончен.
Дядя Терень входит в бухту Диксона. Снег со льда сошел, и бухта — как двор хорошего хозяина — чистая, точно метлой выметенная. Только в ямках во льду чернеет мусор, но и он сверху покрыт тонкой, прозрачной ледяной коркой… Похоже на стеклянные шары, украшение комодов.
Первым делом дядя Терень отправляется на радиостанцию. Здесь вытряхивает он свой мешок и наблюдает, как несутся в эфир и заботы Трофимова, и ревность Арсения, и любовь Жданова. Вот последняя радиограмма отстукана. Теперь дело дяди Тереня — ждать. И слушать.
Он сидит в кают-компании, окруженный полярниками, прихлебывает кофеек из большой кружки, лакомится засахаренным лимоном и слушает. Слушает он жадно, все нужно знать ему: и что на свете делается, и какие караваны идут, и где нынче лед. По целым часам сидит он подле репродуктора, окутанный облаками табачного дыма, подолгу простаивает у карты, на которой флажками расцвечены пути кораблей. Расспрашивает синоптиков, радистов, моряков с зимующего лихтера. С ним люди разговаривают охотно, он умеет и спросить, и послушать, и свое слово вставить. Он ничего не записывает, — такой моды у него нет, он и не знает, что можно новости записывать, но что он услышал и понял, то запомнил прочно. Кок говорит, что дядя Терень совсем «нафарширован новостями», — а старику все кажется, что узнал он мало.
Однако засиживаться на Диксоне нельзя. Весна торопит: ныне она ранняя. Она уже во всей красе: дожди и туманы. Это и есть полярная весна. Дядя Терень озабоченно прикидывает в уме сроки: обратный путь будет во много раз труднее.
— Летуй с нами, дядя Терень, — предлагают радисты.
— Мне, мил человек, летовать здесь никак нельзя, — отвечает он. — Меня люди ждут.
Однако и уходить никак невозможно. Вот уж со всех концов получены ответы на телеграммы, только от бабенки Арсения все нет и нет.
— Экая бабенка какая непутевая, — злится дядя Терень, но не уходит с острова, ждет: как без радиограммы к Арсению явишься?
Тоскливо глядит он, как тает под дождем лед на бухте, — он весь уж в дырочках, точно сыр. Почернел и съежился снег на северных скатах гор. А ответа от бабенки все нет. Пролетел над островом первый косяк гусей, это уж гусь самостоятельный, — а ответа нет. Все сроки вышли, нет и нет ответа. Радисты решили подсобить дяде Тереню в беде.
— Мы ее к телефону вызовем. Врет, явится.
И точно — на другой день дядю Тереня вызвали на рацию.
Он очутился перед микрофоном и услышал женский голос:
— Алло! Я слушаю…
Старик даже растерялся. Ведь это что, ведь это из Москвы голос… Ведь это он сейчас скажет, а в Москве услышат. Тут зряшное слово сказать нельзя, тут весь мир тебя слышит.
— Алло! — нетерпеливо зазвенел в ухе женский голос. — Ну, что же вы не отвечаете?
«Капризная дамочка», — подумал дядя Терень и вдруг рассердился: экая баба! Еще кричит. Лед вот-вот тронется, а тут все сиди, ее листика дожидайся.
— Я мужу вашему сосед… — сказал он в микрофон, не уверенный, что слова его услышат.
— Ах, сосед! Очень, очень рада. Ну, что он, как, бедненький мой? Ах, знаете…
— А то, что нехорошо вы делаете, милая дамочка. Нехорошо, — сказал дядя Терень в микрофон и даже головой покачал. — Я тебе это по-стариковски скажу, попросту. Кабы ты дочка моя была али сноха, я б… — и тут диктор дернул его за рукав, и он остановился. — Ну, то-то, — проворчал он.