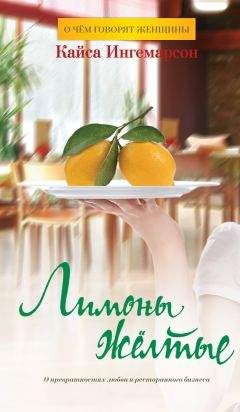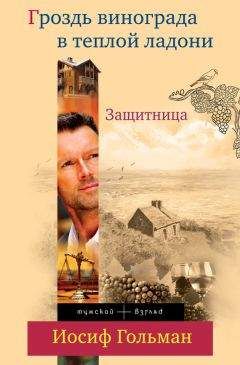В известном смысле мафия представляет собой самую совершенную форму свободного предпринимательства. Какими бы ни были ее исторические корни, сегодня она не имеет ни моральной базы, ни философского обоснования, ни религиозных оснований для своего существования. Она просто существует. Оправдание мафии — в самом факте ее существования. И оно нужно только для того, чтобы демонстрировать свою власть и делать деньги; и, как Энтони Сэмпсон однажды написал о морали лондонского Сити, для нее «хорошо то, что прибыльно, а то, что неприбыльно, — плохо». Мафия довела этот принципиальный посыл до его логического конца: она уничтожает любого, кто может помешать этому процессу, и Палермо — живой свидетель эффективности подобного подхода.
Тем не менее я искал следы вкуса и благопристойности, которые еще остались, и выяснилось, что их немало. Я увидел собор Марторана, старонорманнский храм Сан-Катальдо и собор в каталонском готическом стиле. Я восхищался палаццо деи Норманни и палаццо Вальгуарнера-Ганчи, где Висконти снимал сцену бала для фильма «Леопард». Я влюбился в лишенные крыши развалины церкви Санта-Мария-делло-Спазимо и в очаровательную норманнскую апсиду храма Маджионе. Я наслаждался роскошными садами виллы Джулия, пока меня не выгнала оттуда громкая музыка, созывавшая детей на какой-то праздник. Дворцы и храмы, храмы и дворцы, религия и деньги, деньги и религия — влияние и того, и другого ощущалось в городе на каждом шагу.
По правде говоря, я гораздо меньше интересовался дворцами, а заодно театрами и храмами, чем, наверное, следовало бы. Всего этого было слишком много. И я ощущал некоторую пресыщенность историей и визуальной культурой, особенно религиозной. Разумеется, это говорит об узости моего кругозора, но я упорно стаптывал туфли, пытаясь разобраться в многослойности того, что узнавал, в значении каждого из этих слоев и стремясь связать их с кулинарной культурой Сицилии. Вот почему у меня голова шла кругом.
Я посетил рынки, начав с Вуччирии, в прошлом самого знаменитого в Палермо, но сейчас явно утратившего свое былое значение. Скелеты прилавков, похожие на развалины, пригодные только для фотографирования теми туристами, которые не могут попасть на базар в Порто-Карини и увидеть то, что мы едим, в первозданном, неприукрашенном виде: окровавленных овец с печальными пазами, туши баранов, которым еще не успели отрезать яйца, цыплят с головами и лапами, сложенные кольцами блестящие пурпурные кишки, работающие без устали ножи, горы окровавленного тунца, цуккини, похожие на змей; вдохнуть смесь острых ароматов фруктов, специй, рыбы, сладостей И отвратительного запаха тины и услышать тяжелый кашель мужчины, торгующего требухой. Картина «дикого места, находящегося в состоянии крайнего возбуждения, в котором было нечто театральное» — так когда-то Карло Леви описал Вуччирию. По контрасту с оживленным Порто-Карини торговцы здесь производили впечатление людей, переживающих не лучшие времена.
* * *
Следующий день принес новый яркий и чистый рассвет, новые цели, а с ними и проблемы с передвижением по главным улицам города, как и новые восторги по поводу «Антика Фокаччериа» в тени храма Святого Франциска Ассизского. Было очевидно, что «Антика Фокаччериа» занимает почетное место во всех путеводителях в качестве одной из главных достопримечательностей Палермо, но она была не менее популярна у жителей города, чем у туристов, и тому были веские причины.
Еда здесь высочайшего качества, а порции достаточно большие, обслуживают с таким серьезным профессионализмом, который можно встретить только в лучших парижских ресторанчиках или барах: официанты и официантки быстро и бесшумно двигаются между столиками и действуют с одинаковым мастеровом, независимо от того, кто их клиент.
Я начал с трех очень хорошо поджаренных колобков — тонкое тесто, начинка из турецкого гороха, — с леткой и изысканной капонаты, с местной пиццы, по поводу которой жители Палермо спорят со свирепостью фундаменталистов, представляющих разные секты, и с глубинной гастрономической бомбы — аранчини.
Напротив меня за столиком сидела пара. У дамы было моложавое лицо, стройная фигура и стрижка «под лажа». Мужчине около пятидесяти, но он выглядел моложе своих лет. Его лицо несло на себе печать пуританской чувственности. Оба надели практичные рубашки, столь же практичные брюки и сандалии. Почти не глядя в глаза друг другу, они обменивались редкими, короткими фразами, в промежутке между которыми хранили молчание. Истинные британцы.
Рядом с ними расположилась семья из шести человек, представлявших три поколения. Они не умолкали ни на секунду. В их речи не отмечалось акробатических пируэтов, свойственных неаполитанцам, но присутствовала неотразимая плавность. Ничего драматического или показного, это был привычный дружелюбный разговор близких людей. «Палермитанцы». (Истинные жители Палермо.)
Едва я расправился с закусками, как Сильвия, моя очаровательная, знающая официантка со жвачкой во рту, поставила передо мной первое блюдо — паппарделле с томатами и барабулькой, — по богатству фактуры сравнимое с ризой архиепископа. Паста была легкой и скользкой, маленькие томаты из Пачино — целыми и размякшими в тепле, которое исходило от пасты, филе барабульки — слоистым и ароматным. Помидоры отдали достаточно кислоты, чтобы все блюдо приобрело богатый вкус. Податливость мягкой пасты контрастировала с упругостью рыбы.
В дальнем конце маленькой площади, рядом со стеной храма Святого Франциска, которая с одной стороны ограничивала площадь и ведущие к ней элегантные норманнские ворота с тонкими колоннами по обеим сторонам и поперечным нефом над ними, увенчанным круглым окном-розеткой, сидели две жизнерадостные пары, которые ели с большой осторожностью. Казалось, они придерживаются какой-то специальной диеты: никакого мяса, никакой рыбы, никаких томатов. И никто из них не пил вина. Только кока-колу. Истинные американцы.
Моя официантка принесла мне тарелку рагу из тунца. Это было что-то! Великолепные куски рыбы, плотные и компактные, украшенные горохом и листьями мяты. Благодаря соусу тунец было легче глотать. Горох, возможно, был заморожен. А мята… Что это? Еще одно эхо пребывания на острове арабов или напоминание о куда более глубокой древности? Наверное, второе, подумал я, потому что название этой травы происходит от имени нимфы, возлюбленной бога Аида, которую Персефона превратила в растение — в душистую мяту, после того как застала в объятиях супруга. Бросив Минфу на землю, Персефона наступила на нее. Разумеется, в наше время Персефона обратилась бы к адвокату.