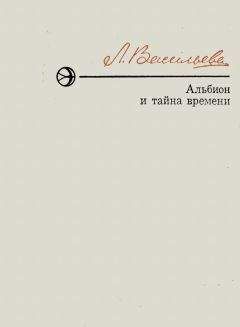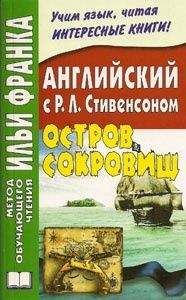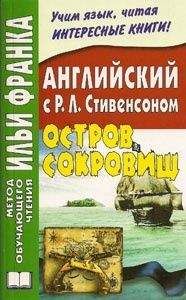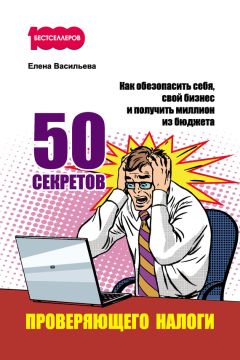— Джон, вы когда-нибудь бывали в других странах?
— Некогда мне по странам разъезжать. Да я и в Лондоне раз всего был, два дня прожил, на третий сбежал — не могу, сумасшедший дом, и только — людей, машин, магазинов — куда они все бегут? И как там только люди живут.
Вспомнился мне тут какой-то другой голос, показалось, что уж где-то от кого-то слышала я нечто подобное, только не Девон это был, а Краснодарский край, и не Джон, а тетя Марфа говорила, и не о Лондоне, а о Москве, где больше двух дней не выдержала.
Похожи люди между собой на белом свете.
Говорят, что Байрон своей родословною дорожил более, чем своими творениями. Чувство весьма понятное! Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта; напротив того, слава, им самим приобретенная, нанесла ему мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного барона, передавая имя его на произвол молве.
А. С. Пушкин. «Байрон»
Экскурсионный автобус въезжал на территорию Ньюстедского аббатства. Еще несколько минут — и я увижу места, где Байрон бегал мальчишкой, где он любил и страдал, где в тишине родился Чайльд Гарольд, где были написаны многие восточные поэмы.
— Любите ли вы Байрона? — спрошу я у начитанного своего знакомого москвича.
— Ах, — скажет он, — Байрон! Байрон, конечно, чудо! Байрон это Байрон!
Скажет и не постесняется. Байрона стыдно не любить, как позорно не любить Данте Алигьери тому, кто сдавал его бессмертный триптих по сокращенному курсу обязательной программы, как нехорошо быть равнодушным к имени Гете — с последним все же дело обстоит полегче — оперу «Фауст» слушали многие, вот если бы «Фауста» еще и в кино сняли, удивляюсь, почему не снимают — очень кинематографический сюжет с дьяволом, вальпургиевой ночью, страданиями и страстями — если бы сняли, тогда бы Гете знали все.
Буду честной — у меня с Байроном всегда были отношения сложные. Покуда я читала его по-русски, бедность переводов не давала возможности осилить и двух страниц.
Конечно, я любила стихи Пушкина «Погасло дневное светило», не зная, что это переложение «Прощальной песни» Байрона. «Есть наслаждение и в дикости лесов», строки, принадлежащие Батюшкову, были интерпретацией одной из байроновских тем, но я не связывала их с Байроном. Даже «Шильонский узник», поэма Байрона, переведенная Жуковским, была для меня всегда сочинением Жуковского.
Образ Байрона, образ его поэзии, мятежный и прекрасный, не возникал передо мной. Я скучно верила учебникам, что он был великий английский поэт, повлиявший на всю мировую литературу.
У очень талантливого переводчика и поэта Георгия Шенгели есть интересное суждение о том, почему Байрон «не вошел» в «алмазный фонд» русского читателя. Шенгели объясняет эту несправедливость слабостью переводов. Сравнивая языки английский и русский, Шенгели очень убедительно показывает, как надо переводить Байрона. Читая его, я соглашалась с каждым положением статьи, возмущалась приведенными примерами халатности переводчиков. И неминуемо последовало желание прочесть Байрона в переводах Шенгели. Он перевел «Восточные поэмы» и, начав читать их, я не прочла и двух страниц, поняв, что при всем уме и точности переводчика и тут не случилось чуда.
Склонна я думать, что Байрон столь же непереводим на русский язык, сколь Пушкин на английский. Чтение английских подлинников Байрона лишний раз убеждает меня в этом. Ведь главное — индивидуальность поэта Байрона не в темах, а в духе его поэзии.
Так почему же все-таки я вступила в аббатство Ньюстеда с трепетным волнением? Причиной был Пушкин. Он, любивший Байрона, боготворивший его, никогда и мечтать не мог не то чтобы увидеть поэта (Пушкину было двадцать пять лет, когда Байрон умер), но хотя бы побывать уже зрелым человеком в местах, связанных с Байроном.
Я шла по дорожкам Ньюстедского парка, и незримо Пушкин шел рядом.
«В 1798 году умер в Ньюстеде старый лорд Вильгельм Байрон и маленький Георгий Байрон остался единственным наследником имений и титулов своего рода… И восхищенная мистрисс Байрон осенью того же года оставила Абердин и отправилась в древний Ньюстед с одиннадцатилетним своим сыном и служанкой».
Была ранняя осень. Просторный холмистый парк Ньюстеда пылал огнями умирающей листвы. Дорога долго вела в гору, потом покатилась с горы, и внизу блеснула вода. Пруд был окружен плакучими ивами. На противоположной его стороне серебряным каскадом бежал водопад. Дорога превратилась в большую засыпанную гравием лужайку, на которой слева от пруда высились развалины старинного аббатства, а к ним примыкал ньюстедский замок.
«Лорд Вильгельм был человек странный и несчастный. Некогда на поединке заколол он своего родственника и соседа Г. Чаворта. Они дрались без свидетелей, в трактире, при свечке, — читаю я у Пушкина, — дело это произвело много шуму, и палата пэров признала убийцу виновным. Он был, однако же, освобожден от наказания и с тех пор жил в Ньюстеде, где его причуды, скупость и мрачный характер делали его предметом сплетен и клеветы. Носились самые нелепые слухи о причине развода его с женою. Уверяли, что он однажды покусился ее утопить в ньюстедском пруду».
Над прудом, едва не поглотившим бедную жертву, важно и медленно гуляют павлины, то распуская, то складывая свои фиолетово-синие веера.
И снова Пушкин: «Сомнения нет, что память, оставленная за собою лордом Вильгельмом, сильно подействовала на воображение его наследника — многое перенял он у своего странного деда в обычаях, и нельзя не согласиться в том, что Манфред и Лара напоминают уединенного ньюстедского барона».
Пушкин никогда не был в Ньюстеде, но Пушкин никогда не ошибался. Я беру поэму «Лара» в переводе Шенгели и впервые вижу торжество переводчика:
…сквозь переплет окна на плитный пол сиянье льет луна.
И лепка потолка, и ряд святых,
что молятся на стеклах расписных,
как призраки наполнили покой,
казалось — жили… жизнью сверхземной.
А Лара, с черной гривой, хмурым лбом,
с колеблющимся на ходу пером,
сам походя на призрак, воплотил
весь ужас, что исходит из могил.
Да, почти фотографически передано ощущение, которое овладевает тобой, когда ты входишь внутрь ньюстедского замка.
Толпы туристов, как могут раздражать они, когда я — сама — овца из того же стада? Успокаиваю себя тем, что их я тоже раздражаю, как часть толпы, мешающая созерцать.