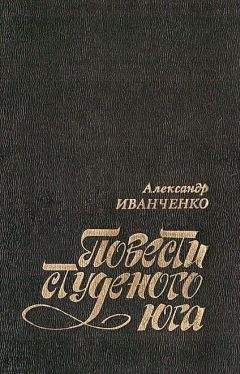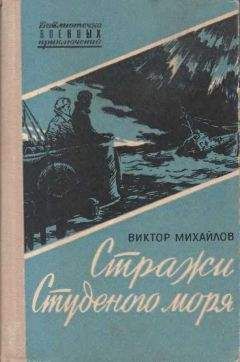Джексон, однако, не предполагал, что «дело» ждет его на лайнере. И тем более ему не могло прийти в голову, что от него потребуют воровства. Залезть к Аллисону в сейф — именно такой вывод напрашивался из рассказа Одуванчика о расписках Папанопулоса и Форбса. Намерение старика передать свои акции экипажу лайнера напомнило греку о его липовом компаньонстве, и он решил завладеть теми расписками… Одна мысль, что его собираются заставить взламывать чужой сейф, повергла Джексона в изумление, то изумление, которое предшествует внезапному удушью.
Одуванчик словно медленно разжевал зеленую сливу.
— Удивляюсь, Джексон, я знакомился с вашим досье, у вас за плечами столько блестящих операций… Вы абсолютно лишены фантазии.
Джексона будто вдруг кто-то кольнул. Разом стряхнув минутное оцепенение, он зыркнул на Одуванчика, с мгновенно вспыхнувшей яростью рывком метнулся к нему, но вовремя взял себя в руки. Сказал мрачно:
— Ладно, Поль, хватит гримасничать! Конкретнее, что вам нужно?
Не замечая или делая вид, что не замечает перемену в настроении Джексона, Одуванчик капризно поморщился:
— Мне кажется, я изложил все достаточно популярно.
— Вы говорили о завещании и расписках. Если в сейфе важные документы, ключи Аллисон носит при себе, он не ребенок.
— Разве я сказал, что он постоянно должен носить их при себе?
— Я не карманный вор! — Джексон изо всех сил принуждал себя сдерживаться, но кривлянья этой рыжей кобры вызывали у него нестерпимые приступы бешенства. — Вам нужны расписки?
— Аллисон болен, — неохотно посерьезнев, сказал Одуванчик. Очевидно, почувствовал, что продолжать «играть» с Джексоном становится опасно. — У него бывают сердечные приступы.
— Вы хотите его убрать?
— Ну-у…
— Это должен сделать я?
— Не совсем… На «Вайт бёрд» намечаются вакансии.
Одна из них — место стюарда, обслуживающего капитана. Она освободится перед самым выходом в море, когда Аллисон, как мы полагаем, проведет день в монастыре святого Августина. Долг первого помощника — позаботиться о капитане. Уходя в рейс, он не должен остаться без стюарда. Новый человек ему может не понравиться, а кто-нибудь из людей, уже работающих на лайнере… Я думаю, Робертс ему подойдет.
— Стюард кают-компании?
— Говорят, он симпатичен Аллисону.
— Возможно. Дальше. — Односложно и резко отвечая Одуванчику, Джексон сидел за столом точно каменный. По его лицу трудно было понять, думает ли он о судьбе Аллисона или всего лишь ждет дальнейших разъяснений. По тому, как он воспринял замысел «убрать» капитана, для него в нем, казалось, не было ничего неожиданного.
— Второго вы можете принять дня через три, — продолжал Одуванчик, как бы скучая. — Его зовут Джек Берри. Скажите капитану… Допустим, Берри когда-то работал у вас боцманом. Вам как раз понадобится младший боцман.
— О таких вещах Аллисон разговоров со мной не ведет. Всех новых людей на лайнер он подбирает сам.
— До сих пор на «Вайт бёрд» не освобождались боцманские вакансии. Ваша рекомендация будет оправдана, боцманы подчиняются первому помощнику. И Берри, насколько мне известно, бывший фронтовик. Если Аллисон все еще играет в покровителя героев войны, у него не будет причин не взять Берри.
— Не знаю, у меня он совета не спросит. Это все?
— В группе несколько человек. Мы полагаем, вступать в прямой контакт вам ни с кем не следует. Лучше всего, если люди друг с другом не знакомы и каждый знает только ту часть задачи, которая поставлена перед ним. В принципе вам никто не нужен.
— Зачем же нужен я?
— Как вам сказать… Когда в море вы замените капитана, вам останется не мешать ходу событий. Но… в чем-то, может быть, и способствовать. Разумеется, если вы сочтете это уместным и ваши действия никому не покажутся странными.
— События… когда заменю капитана… — Как всегда в моменты сильного напряжения, у Джексона задергалось веко. — Какие события? — Он обо всем уже догадался и только ждал подтверждения.
— Ну-у…
— Лайнер?
— В том виде, в каком мы предполагаем, все должно выглядеть естественно… — Одуванчик снова напустил на себя позерство, и Джексон совершенно некстати вдруг понял, что все это от трусости. Главный сочинитель «дела» боялся как бы не оказаться к нему причастным. Юлил вокруг да около, словно недомолвки и манерный тон многозначительно туманных фраз могли уменьшить или как-то приукрасить его роль в задуманном преступлении.
Вряд ли в этом было что-то смешное, скорее наоборот, но Джексона, давно отвыкшего улыбаться, всего затрясло. Долго беззвучно колотило, как в лихорадке.
Густо усеянное мелкой коноплей круглое лицо Одуванчика застыло в тревожном недоумении.
— Что с вами, Джексон?
— Ничего, Поль, я слушаю вас, — справившись наконец с неожиданным приступом утробного хохота, сказал Джексон, впервые беззлобно. Пока его колотило, вся накопленная в душе отрава как будто перемололась и выплеснулась, разом облегчив и душу, и тело. Даже глаза потеплели. Из-под бурой застрехи бровей они смотрели сейчас на Одуванчика и, казалось, светились примирением.
Джексон с удивлением поймал себя на мысли, что вспомнил почему-то мать Одуванчика, вернее то, как она отреклась от своего единственного сына.
В двадцать девять лет получившая в наследство текущий банковский счет на десять миллионов долларов и контрольный пакет акций в крупной судостроительной фирме, Элеонора Кингсли была, судя по цветным фотографиям того времени, почти двухметрового роста дылдой с по-обезьяньи длинными мощными руками и поразительным жеребячьим оскалом. Если к этому прибавить еще огромный костистый нос, как будто грубо вырубленный из розовато-белого, с синими прожилками, камня, и два мясистых лопуха, упруго выпиравших из-под коротко остриженных серовато-пепельных волос, го станет ясно, что, решившись на брак со столь редкостной особой, Израэль Фридман сделал свой выбор отнюдь не по зову сердца. Неудавшийся скрипач, искавший возможности легко и быстро разбогатеть, надеялся, наверное, что уж чего-чего, а пылкой любви супруга домогаться от него не будет. Однако до поры сдержанная и вроде глубоко переживавшая свое уродство, Элеонора после свадьбы как с цепи сорвалась. Изголодало жаждала страсти, неукротимого огня и обязательно поклонения, да не какого-нибудь, а непременно восторженного, на людях, чтобы все видели.
Нет, она не была настолько глупой или наивной, чтобы, несмотря на свою внешность, все же рассчитывать на чью-то искреннюю симпатию, но в ней не заметно было и той скромности или хотя бы простого здравомыслия, которые помогают человеку оценить себя по достоинству и не превращать собственную ущербность в предмет принудительного внимания для других. Неприкрытую гадливость мужа она прекрасно видела и отлично понимала, чем она вызвана, но это ничего не меняло. Наплевать, что он там чувствовал. Она купила его, и поэтому значение имело лишь то, чего хотела она. Кто платит, тот хозяин. А хозяину положено служить. Уроду, бесстыжему, самодуру… Не важно какому, важно, какие деньги. Должен быть милым, коль за любовь хорошо платит.