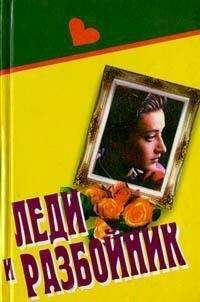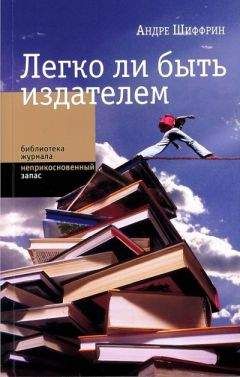Ознакомительная версия.
Должно быть, кит высматривал себе пару. Наверное, решил, что я не гожусь ему по размерам, да и, потом, у меня уже была своя пара.
Мы видели много китов, но ни один из них не подплывал к нам так близко, как тот – первый. Они выдавали себя, выпуская в воздух фонтаны. Киты всплывали чуть поодаль – иногда по три-четыре зараз, образуя зыбкий вулканический архипелаг. Эти милые левиафаны всегда были мне в радость. Они как будто понимали, в какую беду я попал, и кто-то из них, глядя на меня, непременно вздыхал: «Ах! Так ведь это ж тот самый бедолага с котенком – еще старина Бамфу рассказывал. Бедняга! Надеюсь, хоть планктона ему хватает. Надо сказать про него Мамфу, Томфу и Стимфу. А глядишь, и дать знать какому-нибудь кораблю. Вот мамаша-то его обрадуется! Пока, малыш. Меня зовут Пимфу». Так, по китовой почте, обо мне узнали все тихоокеанские киты, и меня бы уже давным-давно спасли, не обратись Пимфу за подмогой к коварным японским китобоям, которые всадили в него гарпун; та же участь постигла и Ламфу – с норвежским китобойцем. Охота на китов – гнусное преступление.
Постоянными нашими спутниками были дельфины. Одна стая даже сопровождала нас весь день и всю ночь. Какие же они веселые! Казалось, они ныряют, проскальзывая под самым днищем шлюпки, просто так – потехи ради. Я попробовал поймать одного. Однако никто из них не подплывал к остроге достаточно близко. Но даже если бы и подплыл, что толку: они были такие шустрые и такие большие – попробуй схвати. Я бросил это дело и стал просто наблюдать.
За все время я видел только шесть птиц. И каждую считал ангелом, предвестником близкой земли. Но это были морские птицы – они могли перелететь Тихий океан, лишь изредка помахивая крыльями. Я следил за ними, завидовал и жалел себя.
Видел я и альбатросов – пару раз. Они парили высоко в небе и, казалось, не обращали на нас никакого внимания. Я глядел на них разинув рот. Было в них что-то таинственное, непостижимое.
А как-то раз рядом со шлюпкой, едва касаясь лапами воды, пронеслась парочка вильсоновых качурок. Они тоже не обратили на нас внимания, но поразили меня не меньше альбатросов.
Однажды нас почтил вниманием тонкоклювый буревестник. Покружив какое-то время над нами, он устремился вниз. Выставил вперед лапы, сложил крылья, сел на воду, легко закачался, как пробка. И принялся с любопытством меня разглядывать. Я мигом насадил на крючок кусок летучей рыбы и бросил ему на леске. Подвешивать грузила я не стал – и крючок упал далековато от птицы. После третьей попытки она сама подплыла к скрывшейся под водой наживке и опустила голову в воду, чтобы ее подхватить. От волнения у меня заколотилось сердце. Я удерживал леску несколько секунд. А когда дернул, птица пронзительно вскрикнула и отрыгнула только что проглоченную наживку. Не успел я предпринять новую попытку, как птица расправила крылья и оторвалась от воды. Два-три взмаха крыльями – и она исчезла из виду.
С олушей повезло больше. Она появилась откуда ни возьмись и плавно подлетела к нам, раскинув крылья, больше трех футов в размахе. Она села на планширь так близко от меня, что я мог дотянуться до нее рукой. И с серьезным, любопытным видом уставилась на меня своими круглыми глазками. Это была большая птица, белая как снег и с черными как уголь крапинками на кончиках и задней кромке крыльев. На крупной луковицеобразной голове торчал острый-преострый желто-оранжевый клюв, а красные глаза, обрамленные черной маской, делали ее похожей на вора, промышлявшего всю ночь напролет. Только бурые перепончатые лапы оставляли желать лучшего: они были непомерно большие и бесформенные. Птица оказалась не из пугливых. Какое-то время она чистила клювом перья, выставляя напоказ мягкий пух. А закончив наводить красоту, вздернула голову и предстала передо мной во всем своем великолепии: настоящий воздушный кораблик с гибкими, безупречно ровными обводами. Я протянул ей кусочек корифены, и она тут же заглотала его, клюнув меня в ладонь.
Я свернул птице шею, резко запрокинув ей голову назад – схватившись одной рукой за клюв, а другой за шею… Перья у олуши оказались такие крепкие, что приходилось их вырывать вместе с кожей, – я уже не ощипывал ее, а раздирал на куски. Она оказалась легкой как пушинка, хотя с виду была огромная. Я схватил нож и ободрал ее всю целиком. Надо же, какая здоровенная, а мяса всего ничего – только на грудке! Оно оказалось жестче, чем у корифены, а на вкус – рыба рыбой. В желудке у нее, кроме кусочка корифены, который я только что ей скормил, были еще три маленькие рыбешки. Смыв с них остатки желудочного сока, я их съел. Съел я и птичье сердце, и печенку, и легкие. Проглотил глаза и язык и запил водой – только одним глоточком. Потом сломал ей череп и высосал крошечный мозг. Объел и перепонки на лапах. От птицы остались лишь кожа, кости да перья. Все это я бросил под брезент Ричарду Паркеру, который даже не заметил, как прилетела птица. Только сейчас наружу высунулась огненно-рыжая лапа.
Из его логова еще несколько дней летели пух и перья – их тут же сдувало ветром в море. А в воде все это проглатывали рыбы.
Но ни одна птица не возвестила мне, что земля близко.
А однажды я встретился с молнией. Небо стало черным-черно – день превратился в ночь. Ливень так и хлестал. Где-то вдалеке прогремел гром. Я думал, на том все и кончится. Но поднялся ветер и принялся швырять дождь туда-сюда. И тотчас небо с треском раскололось пополам и белая вспышка пронзила воздух и воду – поодаль от шлюпки, но все было видно как на ладони. Белые проблески разошлись под водой от ее ствола, точно, корни: гигантское древо богов встало на миг посреди океана. Мне бы и в голову не пришло, что так бывает, – чтобы молния ударила в море. Гром грянул с чудовищной силой. Вспышка была невероятно яркая.
Я повернулся к Ричарду Паркеру и сказал:
– Видал, Ричард Паркер? Это была молния. Ричард Паркер распластался на дне шлюпки, растопырив лапы, и затрясся от ужаса.
На меня же это зрелище подействовало совсем иначе – будто вытолкнуло меня за пределы, положенные смертным. И тут сверкнула еще одна молния – гораздо ближе. Наверное, целила в нас: мы только-только перевалили гребень волны и покатились под откос, как она ударила позади – в самую вершину. Мир взорвался горячей водой и паром. Две, от силы три секунды в небе плясал ослепительно белый осколок стекла – разбитого окна в космос, бесплотный, но исполненный колоссальной мощи. Десять тысяч труб и двадцать тысяч барабанов не наделали бы такого шума, как эта молния, – загрохотало так, что я и впрямь чуть не оглох. Море побелело; вообще все цвета куда-то подевались. Остались только слепящая белизна и беспросветная темень. Свет пронзал темноту, но не рассеивал. Исчезла молния так же как и вспыхнула, – в мгновение ока, раньше даже, чем на нас обрушился горячий душ. А огретая по макушке волна слилась с чернотой океана и покатилась себе дальше, как ни в чем не бывало.
Ознакомительная версия.