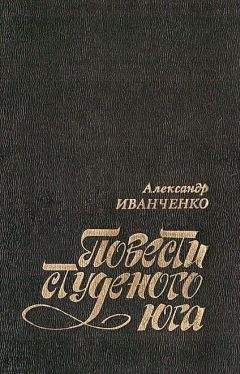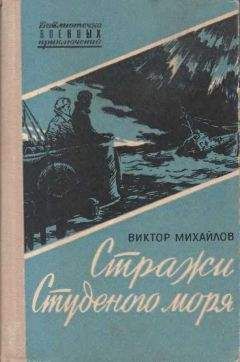Никто так трепетно, с такой затаенной сокровенностью и чутким, как боль, бескорыстием не ждет родительского тепла, как сироты. Вся знобкая неуютность одиночества, все обиды и несбывная тоска ранимой, как совесть, сиротской души забываются при одном лишь проблеске надежды. Не надеяться… Разве быть или не быть надеждам — зависит от нас? Не надеются те, у кого всего вдоволь, кто счастлив настоящим и не видит нужды искать лучшего в будущем.
В тот же день курьерский поезд увозил его в Майами.
Писать или звонить ей по телефону он не хотел. Он должен был с ней встретиться, обязательно встретиться. Но все его попытки проникнуть в дом-крепость заканчивались неудачей.
Потом ему кто-то сказал, что по субботам она иногда бывает на знаменитых майамских собачьих бегах. Он решил караулить.
Увидев его, она встрепенулась и невольно отпрянула. Наверное, ей почудился Израэль — Поль был удивительно похож на отца.
Какое-то время они смотрели друг на друга, точно загипнотизированные. Оба застыли и, казалось, утратили дар речи.
Первым пришел в себя Поль.
— Вы узнаете меня? — глотая слюну, с трудом вымолвил он. В его глазах, оробело-виноватых и как бы пристыженных, вдруг вспыхнуло радостное нетерпение. — Я Пауль… то есть Поль, сын ваш… Вы узнали меня, узнали, правда?
После минутного замешательства она уже полностью овладела собой, выпрямилась, как гренадер, и всем своим обликом напоминала теперь громадного языческого идола.
— Одного такого я знала. Он всадил в меня пять пуль. — Голос ее, прокуренно-хриплый, с басовитыми нотами, звучал спокойно, ровно, неуязвимо. — Вы намерены меня шантажировать?
Поля словно внезапно отхлестали по щекам. Тощий, нелепый, со своей круглой, как будто посаженной на палку, головой, в дешевеньком, давно не глаженном костюме, обвисавшем на его худых плечах, как на вешалке, он стоял совершенно потерянный. Губы его, еще по-детски пухлые, алые, мелко дрожали, широко распахнутые глаза смотрели испуганно, с укором и болью. Он пытался что-то сказать, но только приподнял к груди полуразведенные руки и, не находя слов, беспомощно прял пальцами.
Джексон все видел и слышал. Он «водил» Поля по Майами целых две недели. У него как раз был месячный отпуск, и Лео поручил ему проследить за этим парнем, узнать, чем закончится его рандеву с мамашей. Эго они прислали ему анонимное письмо и потом не спускали с него глаз в Чикаго и здесь, в Майами.
Люди Папанопулоса заинтересовались Элеонорой еще во время суда, когда в газетах поднялась кампания за ее освобождение. Дело было необычное, и на него стоило обратить внимание. Как-никак за Элеонорой числилось десять миллионов долларов, не считая контрольного пакета акций в судостроительной фирме. Подоить такую коровку всегда заманчиво. Каким способом это сделать, они еще не знали, но неожиданный поворот в ходе судебного процесса показывал, что подступы к ней можно найти. Уж очень подозрительным было последнее заключение психиатров и вся дальнейшая газетная шумиха.
Работавшие на грека юристы развили бешеную деятельность, готовясь начать следствие по следствию, но весь их пыл скоро оказался излишним. Поспешно спровадив «драгоценное» дитя в сиротский дом, Элеонора сама кинула им поводок.
Разглашение такого факта неизбежно вызвало бы пересмотр всего дела, и на сей раз за успех адвокатов Элеоноры никто бы не поручился, хотя в ее пользу и теперь говорили два важных аргумента — психологический и правовой.
Поскольку маленький Поль был удивительной копией отца, который покушался на жизнь Элеоноры, ребенок по понятным причинам мог травмировать ее психику, а оно, видимо, так и было, поэтому врачи посоветовали ей временно отдать сына в сиротский дом. Именно временно, на какой-то непродолжительный период, чтобы успокоиться. Разумеется, в интересах самого ребенка. Ведь она не написала в контракте, что отрекается от него пожизненно. Значит, оставила за собой право в любой момент забрать сына домой. Как только врачи нашли бы это возможным.
Такова, вероятно, была бы ее версия в случае повторного суда, и ее снова могли бы оправдать. Но с другой стороны, она оплатила расходы по воспитанию сына вплоть до его совершеннолетия. Авансом внесла все деньги на семнадцать лет вперед. Стало быть, срок был определен достаточно четко. До совершеннолетия — значит, до той поры, когда родители за своих детей юридически уже не отвечают. Иными словами, это было равносильно тому, как если бы от ребенка отреклись пожизненно. Конечно, она могла заявить, что это лишь формальность, стандартные условия контракта. Но зачем было менять имя и фамилию мальчика? И была ли необходимость давать новую фамилию? Это уже злобный умысел, низменное вымещение грехов отца на ребенке.
Короче говоря, при всех оправдывающих Элеонору аргументах пересмотр дела ничего хорошего ей не обещал и люди Папанопулоса, заполучив фотокопии нужных документов, свой бизнес сделали без особого труда. Полмиллиона она заплатила им сразу и по сто тысяч долларов выплачивала ежегодно в течение всех следующих семнадцати лет. При ее финансах такая сумма по суду причиталась бы опекуну Поля — один процент от основного банковского капитала, то есть от десяти миллионов.
Элеонора не обеднела. Ее основной капитал вместе с прибылью от судостроительной фирмы возрастал в год примерно на десять процентов, или на один миллион долларов. Так что шантажисты не зарывались, брали мзду, можно сказать, в рамках закона. Элеонора, однако, не предполагала, какой сюрприз они готовили ей в будущем.
Когда Полю исполнилось восемнадцать лет, она решила, что все ее тяготы кончились. Платить никому она больше не собиралась и угроз никаких не боялась. Отныне все, что каким-то образом касалось сына, для нее умерло. Полю, хотя во время той встречи он ничего не требовал, она сказала, что не даст ему ни цента и вообще пусть проваливает, его рожа действует ей на нервы. Если же он вздумает шантажировать ее оглаской, ему не мешает вспомнить, что все свои материальные обязательства перед ним она выполнила. Да, он воспитывался в сиротском доме, но деньги-то за воспитание платила она. И его учебу в институте сиротский дом до сих пор тоже оплачивал из того фонда, который она создала для него семнадцать лет назад. Кроме того, пусть зарубит себе на носу, что оглаской он все равно ничего не добьется. Они в расчете, и никаких претензий к ней впредь быть не может. А репутация… Что для нее репутация? Собаки, что ли, станут относиться к ней хуже?
Между тем успокоилась она рано. Ей не следовало забывать, что по законодательству Соединенных Штатов Америки всякое уголовное дело считается окончательно закрытым лишь тогда, если с момента преступления прошло не менее двадцати лет. Поэтому обвинения, выдвинутые против нее прокурором Джорденом, по-прежнему оставались в силе. Суд их тогда не принял, так как счел более доказательной линию защиты. Но решение «уда еще не поздно было опротестовать. Это «не поздно» и имел ввиду Глен Перселл — адвокат, диктовавший Джексону анонимное письмо для Поля.