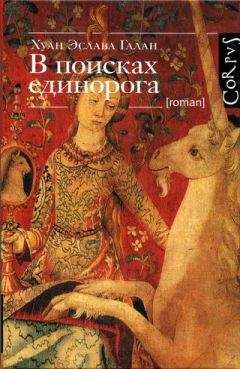На другой день с утра меня привели в большое помещение. Здесь стояли два стола, а по стенам тянулись деревянные полки, заваленные документами и географическими картами. Один из королевских секретарей, виденных мною накануне, объявил о решении высочайшего Совета предоставить мне выбор: либо я до конца своих дней живу в Португалии, либо, коли это мне не по нраву, возвращаюсь в Софалу, откуда меня вывез Бартоломеу Диаш, — как раз через два месяца португальские корабли собираются опять наведаться к тем берегам. Ни за что на свете не хотел я возвращаться в пережитый кошмар, поэтому ответил, что предпочел бы остаться на земле Португалии среди христиан, пускай даже и в темнице. Секретарь загадочно улыбнулся и сказал:
— Не так уж это и плохо, Хуан де Олид. Если задуманное повелителем нашим королем обернется так, как мы рассчитываем, не позже чем через два-три года ты будешь волен отправляться в Кастилию. Зависит же это от того, удовлетворит ли Папа Римский прошение короля, поэтому не в нашей власти воздействовать на исход дела и что-либо твердо обещать.
Со временем я понял, что речь шла о разделении земного шара пополам между кастильским и португальским монархами. Однако тогда я немало дней и ночей потратил, гадая, как это может моя никому не нужная свобода зависеть от столь важных переговоров, в которых участвует сам Папа Римский.
В тот же день, ближе к вечеру, мне вернули мою поклажу, и я покинул казармы охраны. Заглянув в мешок, я удостоверился, что рог единорога по-прежнему там. И неудивительно, ведь все любопытствующие, едва различив в его темной глубине кости и человеческий череп, приходили в ужас и теряли всякое желание еще что-либо выяснять.
Меня снова перевезли на галере через Соломенное море и устроили на ночлег в той же самой крепости, а на следующий день по уже знакомым дорогам я проделал обратный путь до цитадели Сетубала. Из болтовни стражников, сменивших прежних, я узнал, что канцлер распорядился заточить меня в крепость Сагреш, которую отличает самое тесное соседство с морем из всех крепостей португальской земли. Мощный форт и размещенный в нем гарнизон находятся на вершине обрывистой скалы. До места мы добирались ровно неделю, а затем стражники препоручили меня алькайду, попрощались и уехали восвояси.
Начальник гарнизона уже знал из писем, кто я такой, и понимал, что в тюрьму я угодил не за какой-то проступок, а ради пущего соблюдения государственных интересов. Он принял меня радушно, посочувствовал, выделил мне камеру на верхнем этаже, с окошком, куда проникали солнечные лучи, и приказал подчиненным набить мой матрас свежей соломой, дабы мне поменьше досаждала соленая морская влага. Каждый день мне приносили ту же еду, какой питались солдаты и охрана, и вдобавок разрешали по два-три часа гулять на просторной верхней площадке, где стояли пушки. Никто не запрещал мне и развлекать беседой караульных, совершавших обходы, а тем мое прошлое представлялось весьма занятным, и кое с кем из них у меня завязались приятельские отношения.
Так прошло четыре или пять месяцев, и постепенно мне начали доверять, даже дверь моей каморки на ночь не запирали и иногда отправляли меня с каким-нибудь поручением за пределы крепости. Размеры же крепости этой превосходят границы воображения, она занимает целый полуостров, чей высокий скалистый берег обрывается над бурным морем, и не нуждается поэтому ни в каких защитных ограждениях. Единственный рукотворный барьер имеется со стороны узенького перешейка, соединяющего полуостров с сушей, — вот там стена крепкая и хорошо охраняется. Так что мне позволялось свободно передвигаться внутри крепости, ведь сбежать я мог, лишь бросившись в море, от чего бы, без сомнения, погиб — побережье-то открыто всем ветрам и лихие волны возле него бушуют непрестанно.
Словом, алькайд и офицеры доверяли мне все больше и все чаще отпускали в близлежащую деревню, где обитали жены солдат, канониров, а также конюхов и слуг. Деревня та начинается в двух арбалетных выстрелах от крепостных ворот и состоит из горстки совершенно нищих домишек. Порой караульные посылали меня туда купить вина, которое устав запрещал держать в крепости, или принести горячей еды из таверны и давали за это немного денег либо угощали какой-нибудь снедью или тем же вином. А поскольку они были люди недалекие, то и я скрыл свое истинное лицо под маской простачка, чтобы вернее завоевать их расположение и дружбу. Они же, чтобы скрасить тоскливые часы караула, звали меня на свои посты и просили рассказать о стране негров. Больше всего их интересовало, каковы негритянки на ложе, охотно ли отдаются они белым мужчинам, как выглядят их срамные части и правда ли, что части эти у них тверже и горячее, чем у белых женщин, — обо всем том они могли слушать бесконечно, отпуская соответствующие шуточки. Их командир по имени Баррионуэво любил повторять, что в один прекрасный день они погрузятся на галеру и назначат меня адмиралом охранников Сагреша, чтобы я отвез их к негритянкам. И прославит нас великий труд — оплодотворение всех до единой обитательниц Африки и приумножение ее населения. Потому и относились они ко мне дружески, делились своими секретами, а я старался всем угодить. Из-за содержимого мешка меня прозвали „убогий с прахом“ — не в насмешку над моими несчастьями, а всего лишь по простоте солдатской души. Имени моего никто и не помнил — я был теперь „убогий с прахом“.
Некоторое время спустя я свел знакомство с хозяйкой местной таверны. Звали ее Леонор, долгие годы она прожила солдаткой, а после осталась вдовой. Ни лицо, ни стати ее красотой не блистали, однако стоило сойтись с ней поближе — и в ней обнаруживалось подлинное очарование. Поначалу она прониклась состраданием к однорукому пленнику, а там, день за днем, кончилось тем, что мы разделили ложе, поддавшись велению человеческой природы, и я не спешил покидать ее дом, когда приходил с кувшинами, чтобы отнести солдатам вина. Однажды я остался у нее до утра, и караульные, хоть и заметили мое отсутствие в камере, ничего не сказали — они ведь знали, где я пропадаю. Вот так постепенно у меня вошло в привычку иногда ночевать у Леонор ла Табарты — это ее полное имя, — и никто не возражал и не запрещал мне этого. Все видели, что я неплохо устроился, что я спокоен и доволен, никому и в голову не приходило, что я могу помышлять о побеге. Мне и самому хотелось обосноваться там навсегда, потому что моя добрая Леонор, хоть и не была красавицей, если смотреть только на усики над губой да на рябоватую кожу лица, увядшего от тяжелой жизни, казалась мне слаще меда. Прильнув к ее груди, я забывал свои печали, согретый ее теплом, засыпал как младенец; ее ласковые ладони, огрубевшие и мозолистые от многолетнего труда, приносили мне утешение. И я целовал ей ручки, как благородной даме, и говорил комплименты по-кастильски, и декламировал стихи, которые она обожала слушать и в ответ читала мне другие, на португальском языке, мягком и нежном, словно шелк девичьих щечек. Ветреными февральскими ночами мы лежали вместе, греясь друг о дружку под шерстяными одеялами, пока в угловом камине догорали поленья, а вдали неусыпное море с грохотом штурмовало скалы. Сто лет я мог бы быть счастлив подле Леонор ла Табарты.