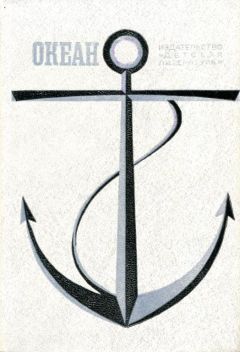— Вот он собирается стать писателем. Он все равно будет у вас спрашивать, опасная ли у вас профессия и какие интересные случаи с вами происходили. Так что лучше расскажите нам сразу.
Я думал, Иван Игнатьевич засмеется (про писательство Петька, конечно, выдумал. Я просто иногда, когда на меня находило, сочинял стихи), но шкипер уставился на меня с любопытством и протянул брезентовый мешочек с табаком и аккуратно нарезанными квадратиками газеты. После Петькиной рекомендации мне показалось невозможным отказаться. Чувствуя, как загораются у меня лоб и щеки, я взял мешочек, достал бумагу и насыпал на нее большую щепоть зеленоватых крошек домашней махорки.
— Ты же не куришь, — удивился Петька.
— Я давно собирался, — сказал я.
— Ну-у, значит, в первый раз? — восхитился почему-то Иван Игнатьевич.
Я сразу сделался центром внимания всей компании. У Петьки была способность: вот так, нелепейшим образом обращать на меня внимание многих людей. В такие минуты он и раньше мне казался жестоким. Сейчас я мысленно давал себе слово перестать с ним разговаривать, если он еще хоть чем-нибудь бестактно меня заденет.
— Не давайте ему больше табаку, — сказал Петька Ивану Игнатьевичу, указывая на мою уродливо толстую папиросу. — Еще одну свернет и весь табак у вас выгребет.
— Это ничего еще, — отозвался Иван Игнатьевич, — а вот уронит — ноги поотбивает.
После первой же затяжки, ободравшей мне глотку и легкие, я, как, должно быть, все ожидали, закашлялся и залился слезами.
— Вот мужик! — засмеялся Иван Игнатьевич.
Петька тоже хохотал, и смех его оскорблял меня больше, чем добрая, усталая улыбка Маши или сдержанный Верин смешок. Ведь он прекрасно знал, как я ненаходчив среди малознакомых людей, и презирал меня за это. Но разве может друг презирать? А Петька презирал и даже пользовался моей слабостью всякий раз, когда ему хотелось показаться остроумным, рассмешить, завоевать популярность. Но сейчас ведь мы не на школьном вечере, сейчас — совсем другое дело. Напрасно я старался придумать что-нибудь остроумное — у меня только сильно звенело в ушах.
— Что же ты пишешь? — все еще смеясь, спросил Иван Игнатьевич. — Статьи, рассказы, стихи? Прочел бы какой-нибудь стих.
— Он стесняется, — сказал Петька. — Я сам прочту его последнее стихотворение.
— Петька! — с угрозой сказал я.
Но Петька с ложным пафосом и подвываниями уже начал:
— Стихотворение Николая Шилина «Надпись на томике Стивенсона». Из детского альбома:
Разбивая фелуки о шхеры,
Зарываясь корветами в лед,
Стивенсоновские флибустьеры
Рвут коричневый переплет.
Это было длинное стихотворение в двенадцать четверостиший, которое я написал и подарил Петьке вместе с моим любимым Стивенсоном перед нашим отъездом. В нем прозрачно намекалось на то, что, подобно искателям острова Сокровищ, мы с Петькой найдем свой клад в романтике, в жизни, достойной настоящих мужчин. Кончалось стихотворение так:
Да, они не сидели, скучая,
На диване в тепле и тени,
Одурев от бесцветного чая,
От грошовой своей болтовни.
Пили, плавали, мачты рубили,
Шли на весь экипаж впятером.
Слышишь рев капитана Билли:
— Йо-хо-хо и в бочонке ром!
Ничего врагам не прощали,
Не играли с судьбою вничью.
Слышишь: Сильвер бьет из пищали
И кричит под копытами Пью.
Умирали мудро и просто:
Не в больничном тупом полусне,
А под смертным ударом норд-оста
Иль у грота спиной к спине.
Эффект от Петькиного чтения был неожиданным. С первых же строк Иван Игнатьевич, словно не замечая Петькиного шутовства, посерьезнел, лицо его вытянулось, а рот наивно приоткрылся. Должно быть, ему не все было понятно, но он не спрашивал — стеснялся. Маша сначала слушала внимательно, а потом отвлеклась. Вера перестала развешивать белье, а когда Петька дошел до «Йо-хо-хо», засмеялась, но тут же смутилась и замолчала. Петька быстро почувствовал перемену в настроении Ивана Игнатьевича и перестал кривляться. Закончил он вполне серьезно.
— Ишь ты, как складно, — сказал Иван Игнатьевич. — А вот у меня не получается. Давно когда-то я тоже пробовал. Еще строчку запомнил: «Облака над Волгой-матушкой бегут». Или не так — «Облака над…» Да нет, забыл. А у тебя гляди как складно… Так ты про профессию спрашивал? Обыкновенная профессия. Нельзя сказать чтобы особенно опасная. А случаи, правда, бывают. — Иван Игнатьевич показал на свою больную ногу: — Вот, видишь, ногу тросом перебило. Шторм был баллов десять в Рыбинском водохранилище. Шесть месяцев в госпитале лежал, думал, от костылей всю жизнь не отделаюсь. Однако обошлось. А в прошлом году весной, мы зимовали в затоне, утром по льду перебрался в город, а возвращаться стал — лед уже пошел. Я и искупался. Однако добрался. А то сразу после войны дно я себе пропорол о затонувший буксир. Это на Волге, повыше Волгограда. И место знал, а вот нанесло. А то еще случаи были… — Иван Игнатьевич усмехнулся: — Случаи, правда, бывают…
— А вы говорите — не опасная! — сказал Петька.
— А чего ж опасного? Двадцать лет уже плаваю. С семьей плаваю. Это сейчас мой парнишка заболел, так я его с женой оставил. Будем проходить мимо, подберем.
Иван Игнатьевич скрутил цигарку, выставил вперед левую, плохо гнущуюся ногу и встал.
— А ты вот что, — строго сказал он мне. — Спросить надо, если лодку берешь. Мы тебя больше часа ждем — работа для вас с дружком есть. После обеда приступите.
И пошел к себе в каюту. За ним поднялась Маша. Вера немного задержалась, окинула меня беглым любопытным взглядом и тоже пошла за ней.
Мы помолчали. Потом Петька заговорил, словно ничего не произошло:
— Можешь и в самом деле роман писать. Вот тебе натура: храбр, трудолюбив, скромен. Ты заметил, он себя от баржи не отделяет: «Дно себе пропорол…»
Я не ответил и продолжал молчать до тех пор, пока не почувствовал, что он вот-вот обидится. Тогда я торопливо кивнул головой:
— Заметил. А чего это он опять раздобрился?
— А я знаю? — нахмурился Петька. — Идем обедать.
Он повернулся ко мне спиной и приподнял веревку, на которой Вера развешивала белье. Я смотрел на его прямые плечи, загорелую жилистую шею и чувствовал большое облегчение: не нужно было ссориться и жить на одной барже в одиночестве, которого бы я все равно не выдержал. Конечно, мне было и стыдно немного, что я не выдержал характера, что Петька, сам не зная того, одержал надо мной победу. «Но главное, — думал я, — дружба. Ради нее надо становиться выше мелочей».
Нагибаясь, чтобы не испачкать белье, я отодвинул мужскую рубашку. Это была та самая рубашка, которую недавно Петька мокрую от пота совал мне под нос.
— Ты тоже стирал? — спросил я.
— Вера, — ответил Петька небрежно. — Сама напросилась.
После обеда мы молотом и зубилом кололи метровые куски желтых сосновых бревен. Работа эта требовала ловкости, силы и навыка. Вначале после каждого моего удара бревно, которое я ставил на попа, падало на палубу — его надо было поднимать и опять ставить на попа. Но скоро мои удары приобрели силу и уверенность — сказалась долгая боксерская тренировка. Я бил широко размахиваясь, делая свободные круговые движения всем корпусом, и каждый раз чувствовал, что боек молота точно попадает в цель. Бревно теперь перестало падать. Прежде чем оно успевало пошатнуться, его настигал и припечатывал к палубе новый удар. А у Петьки дело долго не шло. Он нервничал, бил слабо и часто мазал.
Иван Игнатьевич внимательно следил за нами. Он, кажется, понимал, что мы с Петькой соперничаем. Видела нашу работу и Вера. Должно быть, поэтому я бил со все большим упоением, бил всем телом, таким ловким и подвижным, словно не я им управлял, а оно само в нужную минуту досылало молот в нужном направлении.
Бревен хватило до позднего вечера. Когда за нами пришел буксир, Иван Игнатьевич освободил меня и Петьку от ночной вахты. И пока буксир тащил нас куда-то вверх по Северскому Донцу, я спал мертвым сном. А утром, открыв дверь каюты, шагнул прямо в зыбкое густое облако. Оно, наверно, рождалось внизу, на реке, потому что снизу, из-под борта, будто из раскрытых дверей бани в зимний день, валил пар.
— Рано начались в этом году туманы, — сказал Иван Игнатьевич, которого я не сразу заметил. — Как бы осень не была штормовой.
Он, должно быть, давно не спал: на нем был форменный китель, мичманка с «крабом», в руках большая картонная папка.
— Будем здесь уголь грузить. Можете с приятелем на весь день уходить на берег. Вы не нужны.
Иван Игнатьевич ушел, а я так ничего толком и не понял. Где мы, как далеко берег — не разобрать. Всюду густой белый туман, пропитанный едким запахом углекислого газа. Так всегда пахнет в сырую погоду около большого завода, рядом с которым стоит наша школа. Я побрел по палубе, раздвигая сырую массу руками. Потом щекой почувствовал легкое движение воздуха и заметил трещину, разделившую облако пополам. Трещина была очень узкой, но ветер, хлынувший в нее, тотчас же очистил и зарябил большую площадь воды. Потом сквозь туман пробилось солнце. И сразу серые нитяные клубки, которые рвал и размывал ветер, будто растаяли. Я увидел гористый высокий берег, большой просмоленный дебаркадер, белый пароход, пар из трубы которого казался совсем розовым, и остроконечный угольный холм напротив нашей баржи. По нему всползали серые тонкие змейки.