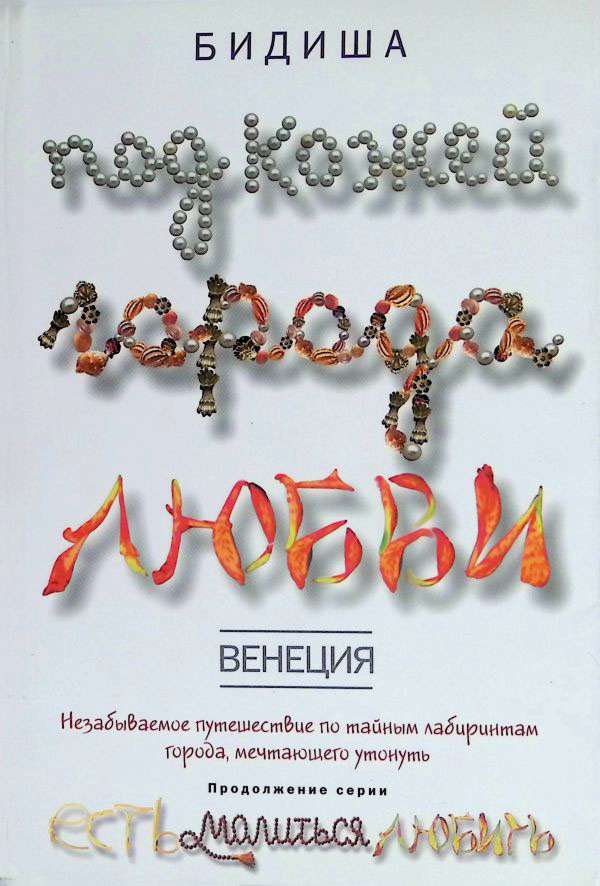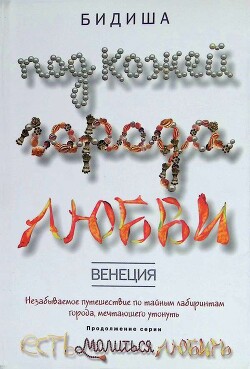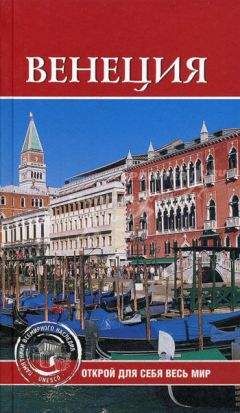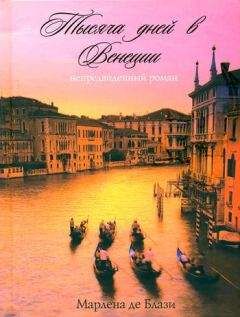уговаривая зайти в «Gobbetti» и «Tonolo», потому что хочу непременно привезти домой некоторые
pastine, которые расхваливала по электронной почте. Как раз когда мы оказываемся в «Gobbetti», крупная, уютного вида женщина доставляет порцию пирожных: поднос с сочными шоколадными рулетиками, каждый в отдельном квадратике шелковистой бумаги. Все присутствующие провожают поднос восторженными взорами и глотают слюнки.
В аэропорту Тревизо меня просят открыть сумку и включить ноутбук. Сотрудники таможни (руки у них в чудных перчатках — черных, обтягивающих) бесцеремонно копаются в моих вещах, но к картонной коробке с пирожными они относятся чрезвычайно заботливо, бережно и аккуратно пропуская ее через рентгеновский аппарат.
Во время полета сижу, закрыв глаза, и думаю, о чем я буду скучать больше всего. Ответ приходит почти сразу: мне будет недоставать моих венецианских подруг. Больше, чем красивых видов, больше, чем пропитанного религией искусства, — в конце концов, всё это никуда не переедет и не изменится. Как говорит Тициана, главное в жизни — человеческий опыт, пережитое, а мне всегда, с тех пор как я окончила учебу, недоставало общества таких вот классных девчонок, с которыми так легко и с которыми снова можно вернуться к органичному для меня подростковому легкомыслию. Я осознала это именно в Венеции, вдали от суматохи Лондона и его сумасшедших скоростей. Со Стеф, Джиневрой и Тицианой я испытывала блаженную свободу, непринужденность, с которой мы порхали пусть не от музея к собору, но, по крайней мере, от кафе к бару или ресторану.
По прибытии в Стэндстед мне кажется, что я оказалась на другой планете. Толпы, автомобильные парковки, эскалаторы и «уродливый, но милый сердцу» городской пейзаж. На миг я замираю в растерянности, но почти тут же ко мне возвращаются былые навыки горожанки, столь необходимые для здешней жизни.
Среди встречающих вижу прекрасную даму, которая смотрит на меня и улыбается. Я со всех ног бегу к ней и бросаюсь на шею. Странно представить, что я не видела ее четыре месяца — впервые я так надолго оставляла дом. Следующие три дня мы просто сидим и говорим, говорим.

Следующие полгода я тружусь изо всех сил — и все это, чтобы осознать две вещи. Первое: книга, которую я написала, не будет опубликована, ее отвергли в пятидесяти (как минимум) издательствах; второе: я знала, что так и будет, причем знала с самого начала, но домучивала этот текст, хотя все во мне восставало против. Такое случается с рукописями (и нередко), но творческий кризис, возникший в результате провала, выливается в тяжелую депрессию. Мне странно и в чем-то даже занимательно наблюдать за собой, страдающей от той самой прославленной апатии, поражающей молодых интеллектуалов. Жертвы ее утверждают: апатия настолько сильна, что они не в силах взять со стола карандаш. Невольно вспоминается бедняжка Бетти из «Маленьких женщин» [38], такая слабенькая, что не могла поднять иголку для вышивания (Бетти-то вскоре умерла). Как бы то ни было, все, что об этой хвори рассказывали, оказывается полной правдой. Кто бы мог подумать, что это непосильный труд — просто поднять руку, чтобы перевернуть страницу? Сраженная иллюзорной усталостью, я дни напролет валяюсь в постели и страдальчески стенаю. И я мучительно скучаю по Венеции: мне недостает ее искусства, возможности побыть одной, недостает квартирки в центре города, не хватает моих подруг, не хватает венецианского глянца и элегантности. Я скучаю по той особой, неповторимой сущности, которой наделена Венеция, я подсела, как морфинист, на ее красоту и начинаю любую фразу с корявого вступления: «Вот когда я жила в Венеции…»
Не дело, конечно, рассматривать этот город как свалку для всех неудачников мира, и все же я отчаянно стремлюсь туда всю весну и в какой-то момент не выдерживаю и набираю номер Стефании. Стефания, кстати говоря, в эти полгода почти не объявлялась. Она не отвечает на мои сообщения по электронной почте, а когда я дважды звонила ей, она показалась мне в высшей степени растерянной, смущенной. Интересно, прошлым летом она страдала такой же клаустрофобией в Венеции, какой я тогда мучилась в Лондоне?
Недавно я узнала, что Стеф распрощалась с Венецией и переехала в Южную Америку, занимается там организацией фестиваля правозащитного документального кино. Бесстрашная героиня! Что же касается Джиневры, то она полностью захвачена делами фамилии Бароне-Риттеров и теперь работает на Грегорио, переводит его научные труды на французский язык.
Итак, трубку берет Грегорио, и после короткого обмена репликами я спрашиваю, можно ли мне поговорить с Лукрецией.
— Разумеется, — жизнерадостно-вежливо отвечает он. — Сейчас позову.
Вдалеке эхом отдаются громкие голоса, затем к телефону возвращается Грегорио.
— Бидиша? Лукреция, э-э… ну, в общем, ты догадываешься, где она! Сколько времени… дай подумать… Если ты перезвонишь через пять минут… Хотя, нет, через десять минут. Определенно не меньше…
И примерно через неделю, в середине мая, я вновь еду в Венецию, но теперь в ужасном состоянии — страшно устала, глаза ни на что не смотрят. Предварительно я связалась с Лукрецией по электронной почте, спросила, нельзя ли мне будет остановиться в квартире Стеф, если я приеду на Биеннале. Разумеется, я тысячу раз повторяю заклинания вежливости, оговариваясь через слово, что если это хоть сколько-нибудь им неудобно, то я ни в коем случае не появлюсь, что я не хочу злоупотреблять их любезностью и терпением, — сплошной поток подобострастия и раболепия. Лукреция тверда: я могу приехать и жить не месяц, а столько месяцев, сколько захочу. Однако я решаю ограничиться одним, я не хочу быть в тягость. Переговоры, надо признать, проходят не вполне гладко, поскольку, хотя Лукреция и постаралась выразить это в максимально мягкой форме, факт остается фактом: она предлагает мне оплатить проживание в квартире. В телефонном разговоре с мамой она говорит:
— Восемьсот евро в месяц — это сильно заниженная цена, но вполне разумная.
Мы готовы согласиться, но попытку Лукреции резко и безоговорочно пресекает Стеф, объявив своей матери, что запрещает брать с меня деньги («Ведь она мой лучший друг», — объясняет Стеф).
Утренний рейс, салон самолета заполняют семьи и какие-то люди из мира искусства/моды. Уже здесь слышны разговоры о предстоящем Биеннале. Я-то лично дожидаюсь выставки уже почти год, заранее выцарапав бесплатный пропуск на открытие. Тем же рейсом летит группа ультрамодных молодых, лет по двадцать с чем-нибудь, итальянцев. В зале ожидания в аэропорту они развлекаются, оценивая каждую проходящую мимо женщину. Я отвергнута с пренебрежением: «Фу! Исключено!» — но другие удостаиваются более внимательного разбора: «Ну, эта