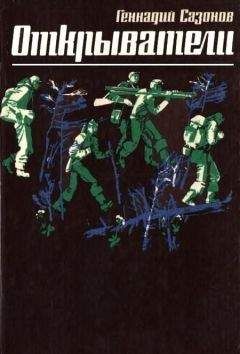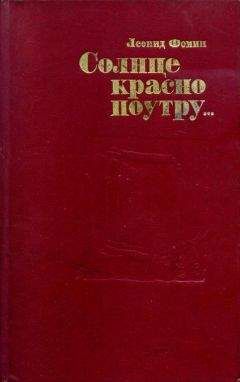— Стой! — кричит Витька. — Клетка.
Точно — в стороне клетка, как в зоопарке, львиная клетка с прутьями в дюйм толщиной. Висит замок, а внутри клетки пусто, в уголке брошен куль полосатый, словно в тельняшке.
— Рвани, Женя!
Я попробовал замок, тронул, и тот неожиданно открылся.
— Давай, наше место!
— Ну и прекрасно! — обрадовался Басков. — На пол постелить спальники, вполне комфортабельно. Но даже если и гнать примутся, все равно не уходите.
Чудак он, Басков, да как же мы из такой клетки уйдем? Без боя не отдадим. Горбоносый дядька увидел нас в клетке и от зависти зашелся.
— Замок свернули, а? — прямо окрысился, когда увидел, как мы телогрейки на железном полу расстилаем. В клетке пол железный, клепаный и несколько болтов торчат. — Вы зачем башку замку свернули?
— У тебя документ есть? — спрашиваю дядьку.
— Какой документ? — встревожился тот.
— Билет есть у тебя? — напираю на него.
— Так бы и сказал сразу, что в клетку по билету, — буркнул горбоносый и поволок за собой чемодан, а тот бил острым углом по голенищу.
— Шикарно устроились! — Иван вытащил из рюкзака телогрейку, занял место у стены, там проходила широкая жестяная труба.
Три раза хрипло и как-то обреченно прокричал пароход, задрожал, как паралитик, дернулся и потихоньку зашлепал плицами по мутной, переполненной Туре, из трубы мохнато вырывался дым — набирал пары обский Россинант. Неважно, лишь бы дотащил нас до Березова.
— У него, поди, вся грудь в ракушках, — смеется Витька. — Давно колесника не встречал. Их же списать должны, а?
Россинант похрипывал и скрипел, глубоко в трюме работала машина, скорее всего современница Ползунова, мелко-мелко дрожал железный пол, но бесконечная эта вибрация успокаивала. Люди на мешках, ящиках в проходах мало-помалу притерлись, угомонились и вот уже потянулись с кружками, фляжками к бачку — за кипятком. А вскоре и буфет открылся, музыка бурная вскипает над палубой, и срывает ее ветер, относит к Тюмени. Толкаются люди, двигаются, осторожно, поднимая высоко ноги, но как ни берегутся, наступят на задремавшего пассажира…
— А прошлый год… ну, да… об эту пору, — бубнит кто-то. — На этом же «Усиевиче» добирался до Матлыма, и наступили мне на рожу. Слегка так. Пошел умываться, публика встречная ухмыляется и глядит в меня, как на чуду в перьях. В зеркало уставился — мать ты моя женщина! — так галошина рубчиками, подошвой своей и нарисовалась. Ну, печать тебе и печать. Крупный, видать, мужчина проходил, парни определили, что галошина сорок третьего номера.
— Не чуял, что ль, а? — выдохнул басок. — Как ты спать-то уважаешь, Егор? Морду тебе как помидорину давят, а ты и очи не откроешь — ну, куды так спать, просто непостижимо!
— Завсегда так усыпляюсь! — бодро ответил из угла Егор.
— Так у тебя бабу из кровати умыкнут, с такой-то охраной. Ну, гляди, рожу ему портят, а он дрыхнет? Уведут бабу-то!
— Чево?! — лениво удивился Егор. — Ее самое самолично бужу, когда сам просыпаюсь. Она беззаветно спит, радостно и без сновидениев… сладко…
— Не пугана! — объяснил третий голос. — Которая пугана, той путаный сон идет, словно она в сеть попадает. Только терпеть не могу, когда баба храпит. Ить как бабы храпят? Не по-мужичьи, а с издевкой, тоненько, как стружечку сдирают, и сон-то мутный, как молоко снятое. Не пугана она у тебя, — с сожалением протянул третий голос.
— А зачем ее пугать? — покойно прокряхтел Егор, переворачиваясь на спину. — То у девчушки, как на новой картошке, шкурка тоненькая, сама облезает, а бабы наши тя напугают — забудешь, что свою пугалку имеешь. Ну, теснота, — крутанулся Егор. — Едет… едет разный люд… чего ищут, чего потеряли — не знают…
— Год от году все прибывают, — поддержал его басок. — То дичь в борах да рыба в реках иссякают, али лес пожаром смахнет, а люди… всех мастей и разных кровей — все сюда… нашествием. Теснятся там в городах, грудятся, там не распросторничаешь — от девяти до шести неси службу и получай жалованье.
— А у нас иной закон? Тоже принялись поджимать: на реке — рыбнадзор, в тайге — егерь, — налился обидой третий голос. — Позапрошлые годы что? Лодка у меня — бударка, шестисилка, и она кормит меня, поит. Весной до путины бревна сплавляю — плоты вон как бьет, сколько безнадзорного леса плавится, и чей он, скажи? Ничей… его и ловим, срубы ставим или на доску гоним, на дрова. А прошлый год какая мода пошла: ловишь — лови, но сдай в гортоп, за денежку, конечно… Да какая там денежка — куб дров пиленых, колотых отдаем за шестьдесят пять, а я кубов до сотни полторы налавливал. Другие спят али баланду травят, а я после работы за этим бревном охочусь — где справедливость и зачем в гортоп?
— Много, много народностев сорвалось со своих земель, — раздается басок, — Украина и Белорусь, и казах едет, и татаре…
Тихо покачивается пароход, урчит машина, гремит музыка. Поднимаюсь на палубу, там свежо, просторно, река выплыла из берегов, затопила луга и покрыла пашни, огороды — слепит солнцем река. А у борта толкается «вербовка» — их человек двести, и чем-то они похожи друг на друга — не одеждой, нет, а каким то присматривающимся, прицеливающимся взглядом, в котором настороженность, недоверие и опыт, опыт бродяги-путешественника. Перекликается меж собой «вербовка» на своем жаргоне — кто брит, кто лохмат, но с перебитым носом, а третий голубоглаз, но впалая грудь, а у пятого грудь, как корыто, да глаз кривой. И они разбились на стайки, на группки, на компании. И в каждой из них — ядро: бывалый парняга, успевший сходить и в низовья Енисея и Оби, в Заполярье, и побывавший на лесосплаве или у геологов, а вокруг бывалого — ядра — на коротеньких орбитах кружат новички, кружат, как бабочки-однодневки вокруг фонаря, а фонарь — ядро — кружит над ними, туманит головы.
— Тура, что ли, река? Куда втекает?
— Втекает она в Тобол, а тот в Иртыш…
— Иртыш, поди, уж в Сибири, а? Тура вон как вспучилась, ярит на берег… смотри… смотри… халява, дом свалила. А вот, гляди, смехота!
У самого берега высятся огромные двухсаженные ворота, а вокруг них на цепи плавает дом. В окнах колыхаются розовые занавески, а к коньку крепко-накрепко прибит скворечник, и на ветке скворец перышки чистит. Почистил и принялся горлышко пробовать, только за шумом реки не слышно птичьей песни. Но у скворца и здесь такая же песня, как и на Волге.
— Двадцать второе мая сегодня, а здесь солнце чуток к земле притронулось. Трава-то ползет, вон как хлещет, а дерево голое.
— Сибирь! — отвечают ему. — Вон погоди, в Заполярье снег еще сугробится, по оврагам затаился, гад, до самой осени. Там, ребята, иногда в июле снег валит прямо на цветики-цветочки, мороза нет, а снег шпарит — околеть запросто можно…