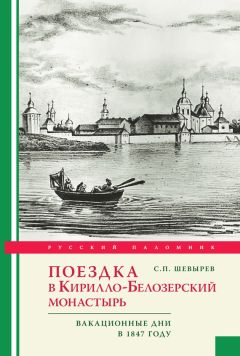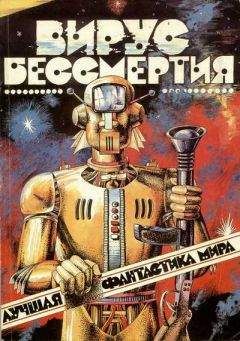Ознакомительная версия.
По другую сторону у северного входа есть образ Спасителя с греческой надписью, которая, как видно, принадлежите русскому невежде: вместо «τò φω˜ ς του˜ κóςμου» (свет мира) читаете «τω φος του βοσμου». Все малые паникадила перед местными иконами серебряные – дар царевен Маргариты и Феодосии Алексеевн, как это можно видеть по надписям, их окружающим. В алтаре есть еще маленький придел Симеона Богоприимца.
Успенский храм, по мнению молодого священника, весьма образованного, заключает в себе наибольшую древность монастыря, но не столько сама церковь, сколько то здание, из которого она построена. Главная церковь во имя Успения Богоматери, которого икона весьма уважаема, подновлена усердием И.Ф. Баранова. По бокам два придела, Иоанна Предтечи и Св. Марии Египетской. В последнем приделе иконостас замечателен красотой своей иконописи; особенно поразил меня необыкновенной грацией образ архидиакона Стефана на северных дверях, с кадилом в правой руке и с камнем в левой. Живопись, должно думать, времен царя Феодора Алексеевича, при котором было сильно итальянское влияние. Все это здание всеми подробностями своими показывает, что оно первоначально назначено было не для церкви. Окна и двери не на тех местах, где бы следовало им быть; углубления в стенах без всякой причины. Подобные я видел после в Твери, в церкви Отроча монастыря, переделанной из келлии митрополита Филиппа. В трапезе большой церкви с правого краю и во всем приделе Марии Египетской вы видите остатки деревянного пола, составленного из сосновых квадратов. Это, конечно, пол прежнего здания.
Внешние части здания при церкви, под одной с ней кровлей, показывают также, что оно все вместе когда-то составляло одно целое: при переделке же его в церковь с двумя приделами некоторые части не взошли в новый план, и теперь в них жилые комнаты. Конечно, опытный в храмовом нашем зодчестве архитектор мог бы окончательно решить вопрос о первоначальном назначении этого здания. Не здесь ли был монастырь Грозного? Не тут ли кельи его опричников? Священник сказывал мне, что по преданиям и догадкам, тут и полагают покои Иоанновы.
Еще более убеждают в вероятности этого предположения подземные своды или подвалы, которые находятся под этим зданием и занимают огромное пространство. Тут теперь монастырские погреба. Своды сложены из белого камня, точеного в больших размерах. Кладка по признакам очень древняя. В одном месте стены как бы впадина, нарочно сделанная, и выдаются какие-то два бруса с обеих сторон: трудно решить, для какой цели это устроено. Те, которые предполагают, что в этом месте была обитель Иоаннова, спрашивают: не для пытки ли какой? В самые нижние подвалы спускаться довольно трудно – по обвалившимся ступеням, в глубокой темноте, при свете лучины. Здесь чуть-чуть проникает свет в самые узкие отверстия, которые сделаны над землей. Местами на камнях сводов я замечал следы букв «м», «р». Под другой церковью Покрова Богоматери, где теперь хлебня и запасы муки для монастыря, находятся другие своды и подвалы. В глубину сходы такие, что спускаться страшно. Входят в те, которые служат магазинами, а на дальние только показывают с ужасом, предполагая, что здесь были какие-нибудь тайники или подземные проходы. Подозрительный Иоанн любил их. Вообще вся эта подземная сторона гадательно напоминает о темном пребывании здесь царя грозного.
Над церковью Покрова устроены те часы, которые в монастыре слывут русскими и которые, начиная счет времени от заката солнечного, обличают итальянское происхождение. Старушка живет при часах, ежедневно заводит их, сверяет с солнцем и заведывает их механикой, которая, судя по наружности ее и устройству, должна быть первоначальная. Надобно слышать, с каким заботливым участием говорит старушка о своих часах. Посредством двух деревянных дощечек она как-то устроила правильное движение маятника, который было испортился. Вся жизнь ее в этих часах. Впрочем, для монастыря они чрезвычайно важны, потому что все занятия монастырской общины распределены по ним. Когда эти часы сделаны или откуда привезены? Неизвестно. Если они устроены уже по основании монастыря, то в эти времена у нас были свои русские часовщики. Из юридических актов мы знаем, что Петр Кузьмин Печонкин, тихвинец, посадский человек, в 1655 г. взялся для одного девичьего монастыря <со> своими работными людьми собрать казенные часы боевые, поставить их на колокольни наготове, «как им бить на четверо часы по четвертем, безмятежно», указать их монастырскому человеку и вывести круг указной, по чем их водить и знать, и впредь шесть месяцев починивать их «безволокидно», а все это за «полпята рубли» (Акты юрид. № 199).
Должно думать, что все это место после смерти Грозного оставалось в запустении до самых тех времен, когда здесь была основана женская обитель. Время основания оной не определено. В «Истории российской иерархии» сказано, что царь Алексей Михайлович в 1651 году разрешил грамотой для стариц строить при церкви кельи и ограду. Но древнейшая грамота, хранимая в самом монастыре, относится к Феодору Алексеевичу. Есть предание о старце Лукьяне, который имя свое дал пустыне, лежащей в 10 верстах от Александрова, что он, с благословенья Патриарха Иоакима, основал и освятил эту женскую обитель. Протоиерей соборной церкви сказывал мне, что есть о том рукописное сочинение, которое ходит по рукам любителей старины. Вероятно, для обители воспользовались существовавшей уже церковью Успенья Богоматери и зданиями Иоанна Грозного, которые отличались необыкновенной твердостью, как это можно видеть из многих памятников его времени.
Здесь-то жили в инокинях две сестры Петра Великого: Марфа (Маргарита) и Феодосья Алексеевны. Первая преставилась в 1697, а вторая в 1713 году. Память их есть древнейшее и священное преданье монастыря. Их смиренные, низменные кельи пристроены к колокольне. На них показывают с благоговением. Ими устроены деревянные усыпальницы или похоронные погреба, где и теперь хоронят монахинь, ставя гроб на гроб. Мы видели несколько гробов, поставленных один над другим, с воткнутыми в них вербами от заутрени Вербного воскресения. Откуда взялся обычай усыпальниц – не знаю. Он напомнил мне обычай погребенья, прежде существовавший в Риме, хоронить в подземных погребах и также ставить гроб на гроб. В этих же усыпальницах похоронены были и царевны, согласно их собственному желанию, вместе с другими монахинями; но потом перенесены были их гробы в другую, отдельную усыпальницу, под церковь Сретения Господня. Здесь на двух гробницах горят неугасимые лампады, и народ чтит память царевен-инокинь частыми панихидами. Перед входом, у окна вы видите портрет Маргариты, имеющий большое сходство с Петром Великим и царем Алексеем Михайловичем.
Монастырская ризница хранит также память царевен. Богатые ризы, шитые жемчугами, серебром и золотом, их рукоделье. Замечательны: крест, построенный в церковь царицей Наталией Кирилловной в 694 году за здоровье ее, Петра Алексеевича и царевича Алексея Петровича; ложка столовая царевны Софьи Алексеевны с буквами ее имени и блюдо серебряное весом фунт и 5 золотников, которое царю Алексею Михайловичу поднесли голландцы с надписью: «21 вес фунт. 5 зол. Государю челом удари галанские торго немцы Давыд Микула стоварищи. 7156, фев. 12». 7156–1648, в 12-й день февраля, т. е. на праздник Алексия митрополита, но это не был день именин царя.
Именинником бывал он 17-го марта, как значится в царских выходах: марта в 17 день слушал государь всенощную, на свой государев Ангел, в Алексеевском монастыре. Жаль, что в выходах 1648 года весь февраль утрачен, а не то, может быть, мы и прочли бы что-нибудь о приношении «Давыда Микулы с товарищи».
Тут же в ризнице хранится несколько кожаных лоскутков, т. е. старинных денег, тех самых, которые из этого же монастыря присланы были в наше Историческое общество. Это маленькие четвероугольнички из толстой кожи с знаком вроде загнутого гвоздя. Я помню: наши скептики, тогда бывшие еще в большой силе, их оподозрили и объявили подделкой. Но что же за нужда была городу Александрову их подделывать? От ризничей слышал я, что этих кожаных лоскут ков можно много найти и по городу. Где отрыты они были – неизвестно.
От памятников Древней Руси возвращаясь к новой, не могу не сказать, что нынешний городок Александров всей жизнью и деятельностью своей обязан своему гражданину, всеми уважаемому Ивану Федоровичу Баранову[6]. Я и прежде слышал о нем от барона А.К. М-фа как об человеке ума и просвещения необыкновенного, с великими замыслами, могущими принести честь торговле и промышленности русской. К моему сожалению, Иван Федорович был в Петербурге, куда поехал за сыновьями, которые воспитываются там в Высшем коммерческом училище. Я не мог познакомиться с ним, чего весьма желал.
И.Ф. Баранов здесь – главный двигатель торговли и промышленности, несмотря на то, что есть купцы в Александрове и богаче его. Он понял, что Россия в своих торговых замыслах должна иметь в виду Европу и Азию: Европу – как образец, с которым не только должно сравняться, но даже его превзойти; Азию – как неисчерпаемый источник для материала и как средство для сбыта. Крашенье бумаги и ситцы – главное его занятие: промышленность народная, соответствующая потребностям всех классов. Народ наш любит светлые одежды и яркость красок: красный и розовый – его любимые цвета. Промышленник должен применяться и к народному вкусу, если хочет успеха и выгоды. Иван Федорович учредил в селе Карабанове новую ситцевую фабрику, с целью превзойти все иностранные изделья в этом роде. Маренý вывозит он из Хивинского царства и в обработке ее вошел в соперничество с Элберфельдом, этим Манчестером Германии, который один до сих пор заведывал ей в Европе: марена барановская являлась уже на Лейпцигской ярмарке и состязалась с элберфельдской. Из Хивы же выписал он в нынешнем году 35 000 пуд хлопчатой бумаги. Г. Чихачев в своей статье, которую читал в Географическом обществе 3 декабря, об исследовании верхнего бассейна Сыр– и Амударьи, относительно торговли нашей с Азией, выражает ту мысль, которую г. Баранов давно уже исполняет на деле.
Ознакомительная версия.