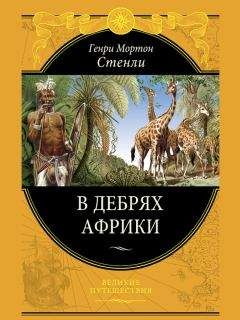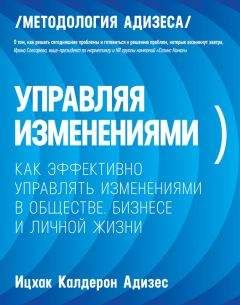Было поэтому и определенное обрядовое значение в распределении отдельных трудовых операций между мужчинами и женщинами. Каждая из них носила характер обряда, жеста, адресованного земле. Эта «ритуализация» труда облегчала обществу вторжение в мир природы, парализовала, как ему представлялось, действие враждебных человеку сил.
К тому же земли, которую легко было бы освоить, было мало. И это не парадокс.
В некоторых районах Африки можно было проехать многие километры, не увидев и клочка обработанной земли. Вдоль дороги — или сырой, темный лес с тяжелым запахом гниющей листвы, или саванна с красными конусами термитников среди высокой травы и редко разбросанных деревьев. Не эти ли черты пейзажа побудили многих исследователей континента выступить с утверждением, что Тропическая Африка не знала земельного голода?
Если бы эти ученые спросили себя, как освоить пустующие земли, их вывод не был бы столь категоричен. Следовало учитывать, что набор сельскохозяйственных орудий в распоряжении земледельца был ограничен; центральное место принадлежало мотыге. В зависимости от характера почв и назначения изменялись длина мотыги, рукоятка, форма лезвия. В то же время африкаканец не знал плуга, бороны, не использовал тяглового скота.
В этих условиях расширение посевных площадей вырастало в чрезвычайную проблему. Знаменательно, что при общей распыленности населения число людей в деревне на единицу обрабатываемой площади повсеместно оставалось крайне высоким.
Чтобы расчистить участок леса под плантацию кофе или шоколадного дерева, крестьянину приходилось искать наемную рабочую силу. Это немногим было доступно. В саванне, где были сильны общинные традиции, земледелец мог обратиться за помощью к деревенской молодежи. Но и ее труд стоил дорого.
Земли было много, но взять ее было непросто. В далеком прошлом, когда деревня переселялась на новые места, крестьяне всем миром поднимались на рубку леса, на корчевку кустарника. Позднее каждый из них мог рассчитывать в лучшем случае на помощь ближайших сородичей.
Было бы неправильно видеть в традиционной африканской агротехнике только отрицательные черты. Ее прошлое — это громадный опыт, миллионы обобщенных крестьянством наблюдений за природой, за климатом, наконец, это рудиментарная селекция, позволившая вывести наиболее приспособленные к местным условиям сорта зерновых и других культур. Их круг был сравнительно невелик (это сорго, просо, рис, кукуруза, торо, горох, лук, тыква, различные корнеплоды вроде ямса или кассавы), но каждая из этих культур насчитывала десятки наилучшим образом отвечающих конкретным почвенным и климатическим условиям разновидностей. Эти культуры в строго определенном порядке чередовались на поле до его полного истощения, после чего земля на долгие годы оставлялась под залежью.
Так в деревне создавалось пусть неустойчивое, но все же равновесие между потребностями общества и тем, что давало сельское хозяйство. Когда это равновесие нарушалось из-за прироста населения, начинались миграции на новые земли с сопровождающими их войнами, если, конечно, голод и эпидемии не вмешивались раньше.
Впервые мне стала ясна острота этого круга проблем при чтении найденной в конакрийских архивах заметки, появившейся 18 ноября 1950 года в газете «Гинэ Франсэз». Газета писала, что 60 % почв страны были недоступны для использования из-за своего бесплодия или из-за опасности бесконтрольной эрозии. 30 % земель могли бы быть использованы при энергичной защите против эрозии.
Но крайнюю напряженность земельному голоду придавала даже не ограниченность возможностей природы. Страшнее ветровой эрозии и разрушительных ливней были результаты воздействия на сельское хозяйство колониальной системы.
Французский этнолог Клод Мейяссу на примере гуро — небольшой этнической группы Берега Слоновой Кости — показал, каким страшным ударом по африканскому крестьянству явилась европейская колонизация даже там, где не происходило отчуждение земель новыми властями. Его людские резервы резко сократились из-за массовых мобилизаций молодежи на трудовые работы; сселения крестьян в деревни отрывало их от уже освоенных земель; многочисленные поборы и налоги лишали самого необходимого.
Тяжкой была не только эпоха собственно завоевания. И в последующие годы колониальный пресс продолжал давить. Его воздействие было двояким: ставя земледельца на грань голодной смерти, он вынуждал его, напрягая все силы, увеличивать производство. В то же время колониализм лишал крестьянина материальной возможности приобретать новую, более совершенную технику, приступить к использованию удобрений, вводить в севооборот более выгодные культуры.
Когда колонизаторы стали внедрять в африканское сельское хозяйство новые культуры (хлопок, арахис, какао, кофе, бананы, масличная пальма), за них ухватились, как за спасательный круг, и сами крестьяне. Сравнительно высокие цены на эти нашедшие спрос на мировом рынке продукты привели к тому, что их начали выращивать повсеместно. Гана вышла на первое место в мире по сборам какао-бобов. Кения экспортировала громадное количество персидской ромашки. Но этот успех зачастую был призрачным, доставался слишком дорогой ценой.
В Далабе на Фута-Джаллоне я долго разговаривал со стариком лесничим, давно работающим в этих местах. В ответ на мои вопросы он рассказал:
— До колонизации края крестьянское хозяйство было натуральным. Существовала своего рода гармония между потребностями семьи, производительностью орудий труда и традиционными методами сохранения плодородия почвы. Что я хочу сказать? Например, одна крестьянская семья могла за год мотыгой обработать около четырех гектаров. Собранный с этого поля урожай обеспечивал ее нужды. Когда земля истощалась, крестьянин осваивал новый участок, а старое поле становилось залежью.
Лесничий внимательно посмотрел на меня: понятен ли ход его рассуждений? Я утвердительно кивнул. Он продолжал:
— Тяжесть колониального пресса поставила крестьянина перед дилеммой — или умереть с голоду, или производить больше. Но как поднять урожай? Удобрения слишком дороги, поэтому переход к интенсивному земледелию был практически невозможен. Оставался один выход — расширение обрабатываемых земель. Когда в двадцатые годы появились первые плуги и начал применяться тягловый скот, это было для крестьян подлинным откровением. Отказывая себе буквально во всем, они собирали деньги на покупку плуга и быков.
— Но ведь это же своего рода техническая революция, этот переход от мотыги к плугу! — воскликнул я.