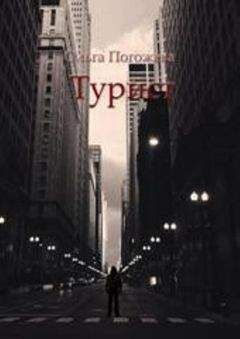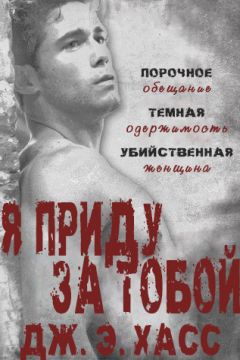Охраны в доме не было. Вряд ли мне доверяли, но, очевидно, понимали, что бежать мне попросту некуда. На всякий случай мы вышли через черный вход, чтобы не светиться перед соседями, и, обогнув особняк Риверса, вышли на соседнюю улицу.
Кладбище Маунт Хеброн находилось в Квинсе. Манетта вел машину, я сидел рядом, безразлично разглядывая пролетающие за стеклом кварталы. Меня ничто больше не удерживало в Америке: со смертью Вителли ко мне вернулось то самое ощущение гадливости, которое охватило меня в первые дни жизни здесь, и отпустило по мере привыкания. Я был слабым и беспомощным на чужой земле. Моей жизнью здесь распоряжались другие. Манетта не захотел говорить о крестном, а я не спрашивал.
За окном промелькнула зелень Гринвудского кладбища. Мне показалось, будто я узнал место. Здесь Джино сбросил нас с Ником с трассы тяжеловесным «доджем». Мне казалось, будто с тех пор прошел целый год, целая пропасть дней. Никому не позволено вернуться в прошлое и что-то изменить. Да и что бы я изменил, случись такая возможность? Мы выбираем свое будущее, но и прошлое остается с нами до тех пор, пока мы живы, и не отпускает после смерти.
Плотный зеленый кустарник и железная ограда кладбища остались позади, машина свернула на другую улицу. Через четверть часа мы оказались перед воротами Маунт Хеброн.
Примо оставил машину у парковки, дальше мы пошли пешком. Американские кладбища я видел только в фильмах. Ровные линии одинаковых серых надгробий уходили вдаль, насколько хватало глаз, отчего чистое поле кладбища казалось размеченным на длинные сектора. Ни оград, ни цветов, только короткая пожухлая трава под ногами, и ряды маленьких камней с выбитыми на них именами.
Совсем не так, как у нас, когда каждому почившему воздаются последние уважение и любовь со стороны родных и близких. Надгробия в цветах и венках, деревья и кустарники в сказочном цветении на проводах; распятия и свежеокрашенные оградки — здесь не было и тени той заботы, которую у нас оказывали усопшим. Хотя возможно, я просто привык к нашим традициям настолько, что, глядя на чужие, не признавал их.
— Джино не хотел, чтобы его хоронили в склепе, — Манетта смахнул несколько сухих листьев с надгробия, плотнее запахнул куртку на груди и повел плечами, точно от озноба. — Я буду рядом, — негромко, словно извиняясь, проговорил Примо. — Вернусь к машине.
В знак благодарности я сжал руку Манетты чуть повыше локтя. Мы мало говорили в дороге, и сейчас не нуждались в словах. Примо кивнул и исчез. Тревога омрачала его лицо, но, погруженный в собственные мысли, я не придавал этому значения. Я думал о прошлом, вспоминал Вителли, и заново переживал все отвратительные, болезненные моменты своей жизни.
Я присел у надгробия, ничем не отличавшегося от череды безликих камней, перекрестился, и поцеловал холодный мрамор так, как было принято у нас. В сознании вспыхнул образ Джино, его отцовские объятия, и наше прощание у ресторана, в тот день, когда меня выгнал Медичи. Мы не должны были встретиться снова. Если бы этого не произошло, кто знает, может, Вителли остался жить. Как же сильно он привязался ко мне, если переживаний за меня, человека из ниоткуда, хватило, чтобы остановить его сердце навсегда.
Я сглотнул, прикрывая глаза, положил ладонь на надгробие и сжал пальцы. Я видел перед собой лицо старого итальянца, его усмешку, прищуренные глаза. Всё должно было идти по-другому. Виноват никто, и все сразу. Я знал только одно средство помощи усопшим, и молился со всей страстью, на которую был способен. Я перемежал слова молитвы с обращениями к Джино, путал русский и английский, шептал всё то, что не мог и не успел сказать в машине, пока Вителли был ещё жив.
После невыразимой скорби, которую испытывают только те, кто остался, на душе стало пусто и спокойно. Не знаю, сколько я так просидел. Камень под моей ладонью стал теплым, а я не двигался с места.
Чувство, будто я не один, пришло внезапно. Я не слышал посторонних звуков или голосов, не появилось и пресловутого ощущения, словно тебе в затылок давит пристальный взгляд — просто я вдруг понял, что у могилы Вителли сижу не один.
Я открыл глаза и обернулся.
Должно быть, Манетта бежал, чтобы предупредить меня. Рядом с ним я увидел двух крупных широкоплечих мужчин в плащах. Бледный, запыхавшийся Примо стоял немного позади них, расширившимися глазами глядя на меня. Ещё двое в одинаковых, расстегнутых на груди плащах, замерли между надгробиями, рассматривая уходящие вдаль ряды могил.
Рядом со мной стоял Джанфранко Медичи.
Я видел носки его начищенных до блеска туфель и строгий темный костюм под расстегнутым дорогим пальто, и медленно поднялся, чтобы не сидеть перед ним на корточках.
Примо нервно огляделся, решительно протиснулся между телохранителями, и подошел к крестному. Я видел, что ему не по себе, но он продолжал стоять, глядя перед собой.
— Signor…
— Вернись в машину, Примо.
Я уже забыл, как звучал голос Медичи, но не забыл ощущение опасности, исходящее от этого человека. Примо лучше меня знал дона Джанфранко, и то, с каким трудом ему удалось удержаться на месте, вызвало у меня невольное восхищение. Манетта снова рисковал ради меня, а я ничем не мог ему помочь. Я мог только сочувствовать: сам я дона Медичи уже не боялся, а наша случайная встреча лишь ускорила развязку. Я только не хотел, чтобы Манетта пострадал, но мне не дали вставить и слова в защиту молодого итальянца.
Медичи повернулся к крестнику.
— Вернись в машину, — спокойно повторил Джанфранко. — Фрэнк и Луис, — Медичи сделал знак охране, — проводят тебя.
Примо сник. Я видел: будь его воля, он бы послал к дьяволу Фрэнка, Луиса, и обоих безымянных охранников, наградивших нашу маленькую группу подозрительно цепкими взглядами. С доном, как когда-то упоминал Примо, не спорили.
Я остался наедине с Медичи. Один на один, как в кабинете, и, как и прежде, не испытывая ни страха перед ним, ни трепета — только бесконечное внимание, поскольку с такими людьми нельзя себя вести ни неуважительно, ни заискивающе.
— Твоё место дома, — не глядя на меня, заметил Медичи. — Зачем ты приехал?
Я не сразу нашелся, что ответить. Вначале хотелось даже переспросить, какой дом он имел в виду — доктора Риверса или тот, далекий, после разлуки с которым прошла целая вечность. Я приехал в Америку без всяких видов на приключения, с одной только надеждой заработать и посмотреть мир. Говорить Медичи, что я обычный турист, означало покривить душой. Разве мог я себя так называть после всего, что произошло?
— Я задаю себе тот же вопрос, сеньор Медичи.