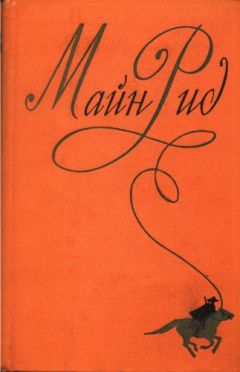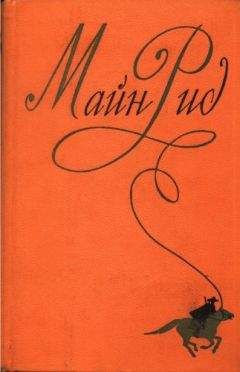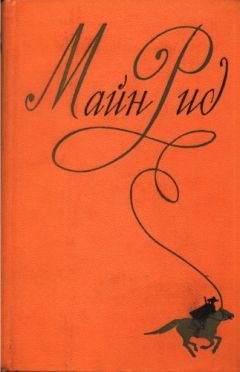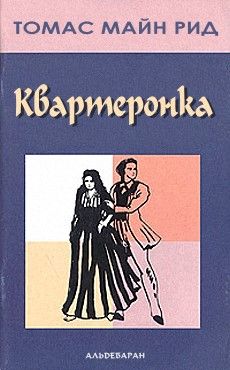В эту-то комнату и ввел меня шериф и его помощники; толпа ввалилась за нами, и скоро там яблоку негде было упасть.
Как видно, судья был оповещен заранее, ибо мы застали сквайра Клейборна в его судейском кресле готовым выслушать стороны. В худом седовласом и благообразном старце я сразу признал достойного представителя закона — одного из тех почтенных судей, которые внушают уважение не только в силу преклонного возраста и занимаемого поста, но прежде всего своими высокими добродетелями. Несмотря на окружавший меня шумный сброд, я прочел в ясном и твердом взгляде судьи решимость оставаться до конца беспристрастным.
Теперь я уже не боялся. В пути Рейгарт успел сказать мне, чтобы я не падал духом. Он шепнул мне что-то о новом, неожиданном повороте дела, но я плохо расслышал его и не понял, что он имел в виду, а в спешке и сумятице мне не представилось случая его переспросить.
— Не падайте духом! — сказал он, когда, подстегнув свою лошадь, поравнялся со мной. — И не бойтесь. Все будет хорошо. Это довольно необычное дело, и кончится оно необычно и кое для кого весьма неожиданно. Ха-ха-ха!
К моему удивлению, Рейгарт захохотал — казалось, он чему-то искренне радовался. Я с недоумением взглянул на него.
Но мне так ничего и не удалось узнать, потому что в эту минуту шериф повелительным тоном запретил вести разговоры с арестованным, и нас раз— лучили. Как ни странно, но я не рассердился на шерифа. Что-то подсказывало мне, что грубость его притворная и что шериф Хикмен прибег к этой уловке, желая умиротворить толпу.
Когда меня подвели к кафедре, шериф и судья не без труда водворили в зале порядок. Судья, воспользовавшись относительным затишьем, наконец приступил к делу.
— Итак, джентльмены! — произнес он твердым официальным тоном. — Я готов выслушать выдвинутые против этого молодого человека обвинения. В чем он обвиняется, полковник Хикмен? — обратился он к шерифу.
— В краже негров, насколько я понимаю, — ответил тот.
— Кто предъявляет обвинение?
— Доминик Гайар! — раздался голос из толпы, и я узнал его: это был голос самого адвоката.
— Присутствует ли здесь мсье Гайар лично? — осведомился судья.
Голос ответил утвердительно, и лисья физиономия моего врага вынырнула из толпы.
— Мсье Доминик Гайар, — произнес судья, — в чем обвиняете вы арестованного? Изложите ваше обвинение подробно и под присягой.
Покончив с формулой присяги, Гайар изложил свой иск со всеми тонкостями и вывертами, достойными прожженного крючкотвора.
Мне незачем здесь воспроизводить все его юридические хитросплетения. Достаточно сказать, что обвинение состояло из нескольких пунктов.
Во-первых, я будто бы подстрекал к мятежу и пытался взбунтовать невольников плантации Безансонов, помешав «справедливому» наказанию одного из негров. Во-вторых, я подучил другого невольника ударить надсмотрщика, после чего склонил его бежать в лес и помог ему скрыться. Имелся в виду тот самый Габриэль, который сегодня был пойман вместе со мной. В-третьих — и тут Гайар дошел до самого выигрышного пункта своего обвинения…
— В-третьих, — продолжал он, — проникнув в мой дом в ночь на восемнадцатое октября, арестованный выкрал оттуда невольницу Аврору Безансон…
— Ложь! — прервал его чей-то голос. — Ложь! Аврора Безансон не невольница!
Гайар вздрогнул, словно его ударили ножом.
— Кто смеет это утверждать? — осведомился он, но уже без прежнего апломба.
— Я! — отвечал тот же голос, и в то же мгновение молодой человек вскочил на скамью; теперь он на голову возвышался над толпой. Это был д'Отвиль!
— Я утверждаю! — повторил он так же твердо. — Аврора Безансон не невольница, а свободная квартеронка! Судья Клейборн, — продолжал д'Отвиль, — сделайте милость, прочтите этот документ! — С этими словами он передал стоявшему рядом человеку сложенный вчетверо пергамент, а тот передал его дальше.
Шериф вручил документ судье; тот развернул бумагу и прочел ее вслух.
Это оказалась «вольная» квартеронки Авроры — свидетельство о том, что она отпускается на волю, составленное по всем правилам и подписанное ее покойным хозяином Огюстом Безансоном. Старик приложил его к своему завещанию.
Толпа окаменела от изумления, никто не мог вымолвить ни слова. Настроение в зале явно переменилось.
Все глаза обратились к Гайару. А он, запинаясь от смущения, произнес только:
— Я протестую!.. Эту бумагу выкрали из моего секретера и…
— Тем лучше, мсье Гайар! — снова прервал его д'Отвиль. — Тем лучше! Признавая, что бумагу выкрали у вас, вы этим самым признаете ее подлинность. Но скажите, сударь, почему, имея на руках этот документ и зная его содержание, вы осмеливаетесь утверждать, что Аврора Безансон — ваша невольница?
Гайар был сражен. Его мертвенно-бледное лицо сделалось зеленовато-серым, и обычно злобное выражение уступило место растерянности и страху. Чувствовалось, что он дорого бы дал, чтобы очутиться за тридевять земель отсюда, да и сейчас он уже прятался за спины стоявших возле него мужчин.
— Постойте, мсье Гайар! — продолжал неумолимый д'Отвиль. — Я еще не кончил. Вот, пожалуйста, судья Клейборн, еще один документ, который не лишен для вас интереса. Попрошу вас уделить ему внимание.
С этими словами д'Отвиль вынул из кармана другой сложенный лист пергамента, который передал судье, и тот, развернув бумагу, огласил ее содержание.
Это было дополнительное распоряжение к завещанию Огюста Безансона, по которому тот оставлял своей дочери, Эжени Безансон, пятьдесят тысяч долларов, каковые, по достижении совершеннолетия, должны были быть выплачены ей обоими опекунами — господином Домиником Гайаром и Антуаном Лере, причем существование этих денег должно было храниться от подопечной в тайне до дня их выплаты.
— А теперь, мсье Доминик Гайар, — продолжал д'Отвиль, лишь только судья дочитал бумагу, — я обвиняю вас в присвоении этих пятидесяти тысяч долларов, равно как и других сумм, о которых будет сообщено особо. Я обвиняю вас в том, что вы утаили самый факт существования этих денег и не показали их в активе состояния Безансонов, в том, что вы попросту украли их!
— Это весьма тяжкое обвинение! — произнес судья Клейборн; он, видимо, не сомневался в истинности всего сказанного и намеревался дать ход делу.
— Но позвольте узнать ваше имя, сударь? — мягко осведомился он у д'Отвиля.
Я впервые видел д'Отвиля при дневном свете. До сих пор мы встречались с ним лишь в ночных сумерках или при искусственном освещении. Правда, сегодня утром мы провели несколько минут вместе, но нас окутывал полумрак леса, и я лишь смутно различал его черты.