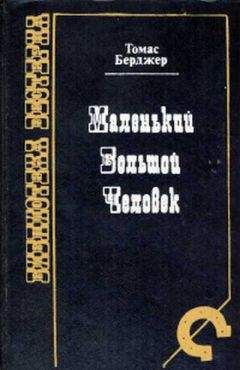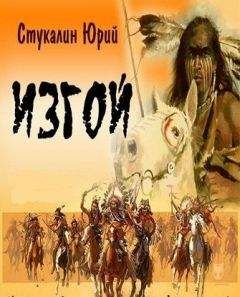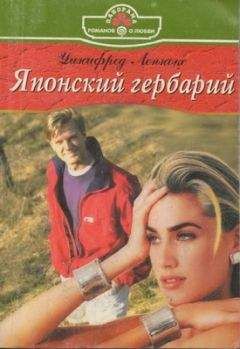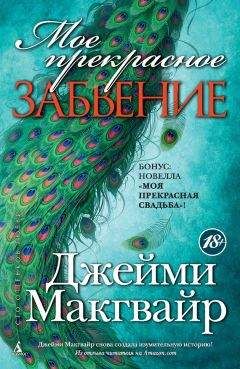В общем, закончив есть, Поуни вставали, ковыряясь ногтем в зубах, ещё пару раз говорили «ай-ай, ай-ай», влезали на своих лошадок и уезжали, не сказав ни слова благодарности, хотя некоторые из них лезли пожимать руки. Эту привычку они только недавно переняли у белых (а стоит им подцепить что-нибудь новенькое, и оно тут же превращается у них в манию). И уж если кто из них начнет пожимать руки, то пожимает всем подряд, всему каравану — мужчинам, женщинам, старикам и детям, и младенцам в люльках. И я б не удивился, если бы он и к волу полез: пожать ему правое копыто.
Они не говорили ни слова благодарности, потому что у них не было такого обычая в те времена, к тому же они и так уже проявили вежливость, без конца повторяя «ай-ай, ай-ай», что означало «хорошо-хорошо». Вообще-то весь свет можешь обойти, но более манерной публики, чем индейцы — не найдешь. В каком-то смысле эти их визиты были визитами вежливости (в соответствии с их понятиями о вежливости), потому что по нашим понятиям они были вовсе не попрошайки, вроде тех опустившихся типов, что я встречал в больших городах. Вот они-то этим только и промышляют. По индейским понятиям, если видишь чужака, то либо ешь с ним, либо воюешь, но чаще Шайен делишь хлеб, потому что война — дело серьёзное, слишком серьёзное, чтоб воевать Бог знает с кем — с незнакомцем, которого впервые видишь. Мы могли бы наткнуться на какой-нибудь индейский посёлок, и тогда уже им бы потчевать нас — никуда бы они не делись. Эти рауты с каждым днём становились всё грандиозней, потому что, как я себе представляю, один Поуни, наверное, говорил другому: «Слушай, надо бы тебе тоже съездить туда, к этому каравану, да отведать кофе с сухариком». А поскольку мы на своих волах плелись еле-еле (мили две в час, не больше, а из-за бесконечных остановок и угощений так и того меньше), то целыми неделями тащились по территории одного племени. С каждым днём гостей приезжало всё больше. Приезжали с женщинами, даже с младенцами, увязанными на специальных волокушах, сделанных из жердей… Когда добрались до территории Шайенов — в юго-восточном углу нынешнего штата Вайоминг — опять началась та же самая песня, только теперь с Шайенами. У всех в нашем караване кофе давно вышел, и во время остановки в Форт-Ларами, у слияния рек Ларами и Северного Платта мы первым делом собирались пополнить его запасы.
А в Форт-Ларами запас бобов тоже иссяк, а подвоза ожидали только через неделю (тогда ведь железной дороги ещё не было). Как ни странно, папаша твёрдо склонялся к тому, чтобы подождать, но остальным не терпелось немедленно двигать в Калифорнию. Они ведь и так уже опоздали на три года…
Одним из таких торопыг был Йонас Трой — бывший кондуктор с железной дороги, родом откуда-то из Огайо. Помню, была у него коротенькая бородка, худосочная жена и ребёнок, — мальчишка, старше меня на год, — гадкий парень… Помню, стоило нам подраться, он тут же начинал кусаться и пинаться ногами, а когда я отвечал ему тем же — дико орать.
— Индейцы, — говорил мистер Трой, — любят виски даже больше, чем кофе. К тому же и угощать легче — не надо останавливаться, наклонил бочонок — и всё…
Когда он говорил это — они с папашей как раз стояли у входа в лавку, расположенную на самом бойком месте этого форта.
И покуда они обдумывали и, наконец, приняли своё роковое решение, мимо них проехало десятка полтора человек, каждый из которых вполне мог бы посоветовать им отказаться от этой бредовой идеи и тем самым спасти им жизнь, ведь это были не новички — трапперы, следопыты, старатели, солдаты, даже сами индейцы — но папаше и Трою даже в голову не пришло кого-то расспросить: Трою — потому что он свято верил во всё, что придумал сам и что благословил мой папаша, а папаше — потому что после наших встреч с племенем Поуней ему втемяшилось в башку, что теперь он знает индейцев, как облупленных.
— Уверяю Вас, брат Трой, — говорил папаша, — характер жидкости не имеет для них никакого значения. Важен сам акт причащения. Не забывайте, ещё в Книге Мормона сказано, что индейцы суть заблудшие племена народа Израилева. Этим и объясняются языковые сложности, с которыми я столкнулся, пытаясь объясниться с представителями этого благородного племени там, на реке Платт, ибо я ведь не знаю ни слова на иврите, хотя твёрдо намерен заняться им, когда мы доберёмся до Солт-Лейк. Но Господь в своей бесконечной мудрости сподобил меня общаться с нашими краснокожими братьями непосредственно от сердца к сердцу, и в их сердцах я узрел лишь любовь и справедливость.
Так вот, закупили они в лавке несколько бутылей виски и вскоре мы, так и не пополнив запасы кофе, выехали из Ларами. Как сейчас помню поля к западу от форта, сплошь заваленные всяким хламом, выброшенным нашими предшественниками: мебель, утварь, всякое тряпье… Просто диву даешься, что весь этот хлам люди тащат за тысячи миль, через пустыни, реки, горы, прерии, заросшие бизоньей травой… Там валялись даже книги, множество книг, вздувшихся и покоробленных от дождя, солнца и ветра, трепавшего их страницы, и папаша не пожалел времени, чтобы пролистать некоторые из них, в надежде найти Книгу Мормона, о которой он упоминал, но которую в действительности ни разу не видел, ибо все свои познания об этой секте он приобрел у одного лудильщика, что заглянул как-то раз в салун в Эвансвиле. Да и вообще, когда я теперь вспоминаю обо всем этом, мне кажется, папаша и читать-то не умел, а места из Евангелия, которые он цитировал, были восприняты у настоящих проповедников, когда ещё был цирюльником.
Прошёл день (или два) после нашего отъезда из форта. Ехали мы южным берегом Северного Платта, всё ещё по ровной, как стол, прерии, хотя впереди уже виднелись холмы, а дальше за ними поблескивали снежными вершинами горы Ларами. Было, кажется, начало июня, и тут нам представилась возможность проверить теорию Троя на практике, ибо в один прекрасный день со стороны реки появилась группа Шайенов — дюжины две воинов на лошадях, у которых с брюха все ещё капала вода. Шайены — народ симпатичный: высокие, стройные, а мужчины у них, как и все заядлые бойцы, страдают тщеславием. Как и положено по случаю визита, эти парни с ног до головы обвешались стеклянными бусами, заплели свои волосы в косички и украсили их лентами, выменянными по случаю у какого-нибудь торговца. У большинства на голове красовалось орлиное перо, а у одного из них на макушке красовался цилиндр без дна — чтоб голова дышала.
Появились они, по своему обыкновению, внезапно, из-за холма, когда до каравана было около четверти мили. На плоской местности индейцев почти никогда не встретишь, хотя они, конечно, и по ней ездят, но застать их на ровном месте белому человеку почти невозможно. Даже прожив среди краснокожих несколько лет, я так и не смог понять, как они чуют присутствие других людей где-то поблизости. Ну, известное дело, они вонзают в землю нож по самую рукоятку, и, прижавшись к ней ухом, слушают, но как правило, таким способом услышать ничего нельзя, разве что кто-то скачет галопом. А ещё они иногда насыпают небольшую пирамидку из камней на водоразделе — на самой верхушке — и спрятавшись за ней, долго глазеют по сторонам, изучая долину. Но ведь Равнины сплошь покрыты холмами, которые словно застывшие океанские волны, и с вершины одного холма видно только до вершины следующего, а за ним уже ничего не увидишь. К тому же не на каждом водоразделе индейцы это проделывают, только на некоторых; и всё же, уж если они смотрят, то как правило, что-нибудь да высмотрят.