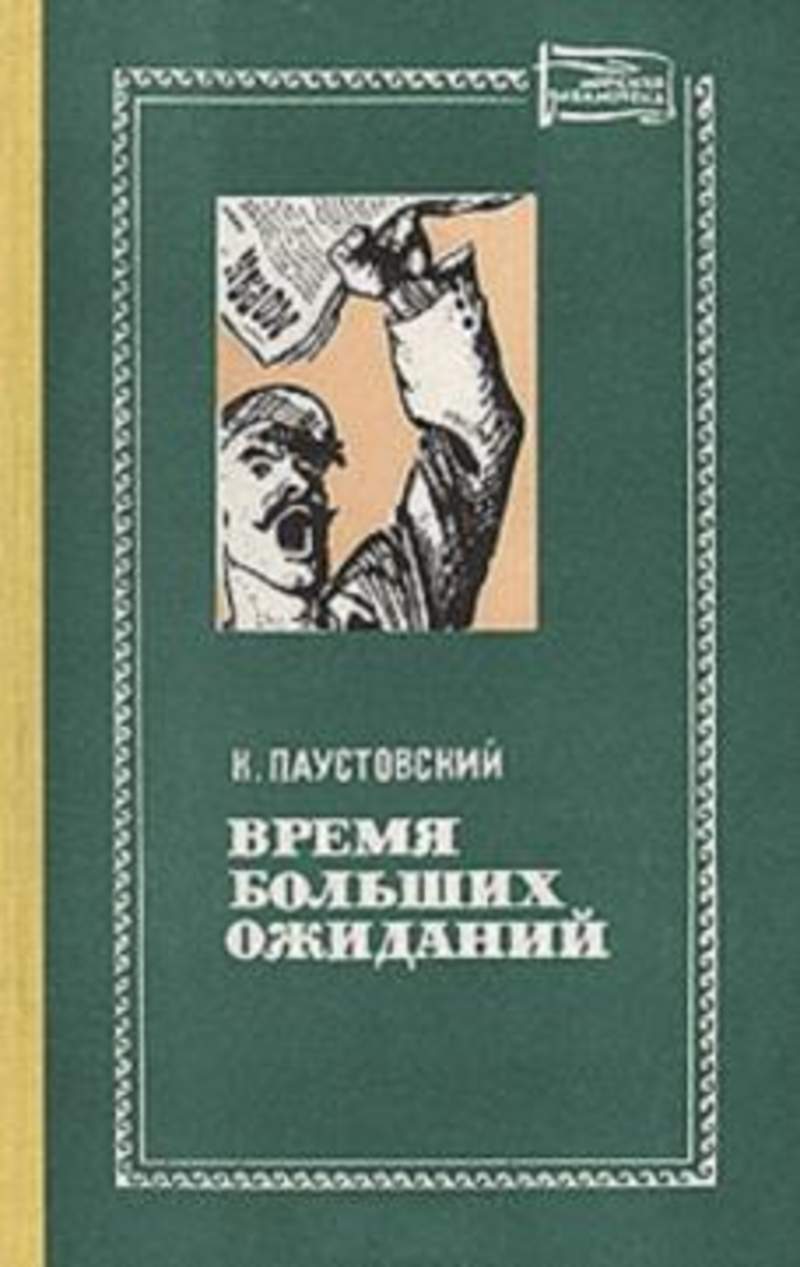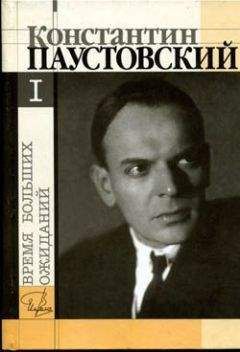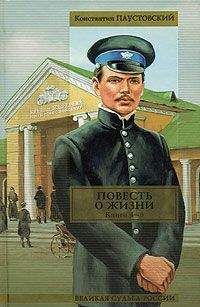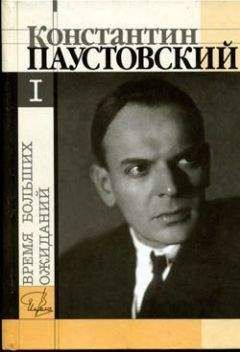старался разглядеть знакомые берега. В далекой тьме угадывался Карадаг. Я увидел — мне это не могло показаться — слабый свет у самого края горы. Может быть, эго был свет из окна Любиной комнаты.
Я спустился в каюту, откупорил бутылку стариковского вина и выпил немного — всего один стакан. Выпил за эту кремнистую землю, за зимнее море, за новых моих друзей, но больше всего за то, чтобы мимолетная наша дружба стала такой же крепкой, как сок этого рубинового вина.
1950
Когда у нас в Средней России начинают лить осенние обложные дожди и в дыму этих дождей тонут леса и свинцовые речные просторы, тогда приходит к человеку тоска по далекому черноморскому солнцу.
Мы, рыболовы, обычно терпеливо ждали, когда наконец пройдет ненастье. Чаще всего оно оканчивалось ночью. Мы просыпались от глубокой тишины. Дождь не гремел по железной крыше деревенского дома, не шумели от ветра старые вязы, и только последние капли изредка постукивали то тут, то там за стеной.
За окном мезонина было видно, как ненастье сваливалось за леса непроглядных туч. В очистившемся небе сияла омытая дождем Большая Медведица.
Но пока длилась непогода, мы, запертые ею в бревенчатых комнатах, любили поговорить о рыбной ловле под иными широтами, под южными безоблачными небесами.
Больше всего я привязан душой к нашей средней полосе России. Рыбная ловля в ее реках и озерах кажется мне замечательной. Но в дождливые дни я тоже вспоминал о рыбной ловле на Черном море. В морской ловле было много своеобразия и прелести.
Я вспоминал старый мол-волнолом в Одессе, изъеденный, как губка, крепкой солью и ржавчиной.
В лужах на молу вода была так прогрета солнцем, что попадавшие в нее креветки тотчас умирали. При этом они краснели, как крабы в кипятке.
Креветки сами по себе, конечно, не могли попасть в эти лужи. Их роняли туда рыболовы.
Креветок продавали в толстых бумажных фунтиках. У каждого рыболова торчало в кармане по два-три таких фунтика вместе с горстью маслин, куском брынзы и свежего арнаутского хлеба.
Торговала креветками — по-одесски «рачками» — тут же на молу худая маленькая женщина, тетя Пая, с таким взвинченным голосом, что вытерпеть его могли только философически настроенные одесские рыболовы.
— Слушайте, граждане! — пронзительно говорила тетя Пая, сидя на перевернутой корзине из-под креветок. — Неужели я приговоренная навеки к этим проклятым рачкам? Так нет же и нет! У меня есть своя думка: вырастить из моего Моти знаменитого скрипача. Он учится у самого Столярского. Чтобы мне добра не было, если я не сделаю из Моти свое утешение.
Было совершенно непонятно, к кому обращалась тетя Пая со своими речами. Рыболовы сидели поодаль на краю мола, свесив ноги и воткнув в щели между камнями длиннейшие бамбуковые удилища, или, как их зовут в Одессе, «пруты». Голос тети Паи, конечно, долетал до рыболовов, но они так привыкли к нему, что уже не слышали его, подобно тому как береговой житель перестает замечать шум прибоя.
Слушал тетю Паю только рыжий кот Зяма — единственный постоянный обитатель волнолома. Он спал на солнцепеке около тети Паи, закрыв один глаз. Второй глаз был на всякий случай только прищурен. Зяма лениво следил этим глазом за всем, что делалось на молу.
Как Зяма попал на мол, никто не знал. Большинство рыболовов склонялось к той мысли, что Зяма был сильно вороват. За это хозяин Зямы и завез его на мол, чтобы навсегда от него отвязаться. Дело в том, что мол не соединялся с берегом. Па него переезжали на шлюпке. Зяма остался на молу, как на необитаемом острове.
Зяма воровал рыбу и этим питался. Жил он в пещере от вывалившегося из мола большого камня-массива. Пещера была расположена не со стороны моря, где набегал прибой, а со стороны порта. Там даже в штормы было тихо.
То обстоятельство, что кот сообразил, где поселиться, вызывало к нему даже некоторое уважение. Может быть, из этого уважения кто-то из рыболовов поставил в пещеру к Зяме пустую жестянку от консервов («бычков в томате»). В эту жестянку рыболовы наливали коту пресную воду, а то, бывало, и ситро, если кто-нибудь привозил ситро и опускал «для прохлады» бутылку на длинном шпагате с волнолома в морскую глубину.
Креветок тетя Пая держала в круглой корзине, прикрытой морской травой. В корзину была воткнута палка, а к ней прибита дощечка. На дощечке рукой будущего знаменитого скрипача было нетвердо написано: «Граждане! Кредит портит отношения!» Но, несмотря на эту предостерегающую надпись, тетя Пая охотно отпускала рыболовам креветок в кредит.
Мы проводили на волноломе с поэтом Эдуардом Багрицким целые дни и возвращались в город сожженные солнцем до медного блеска.
Багрицкий научил меня ловить на самолов — длинный шнур с несколькими крючками и тяжелым грузилом на конце. Одесские рыболовы ловили только на белые серебрёные крючки. На эти крючки морская рыба брала, по их словам, охотнее, чем на черные.
Ловля на самолов оказалась увлекательным делом. Мы со свистом раскручивали над головой грузило и далеко закидывали шнур. Он разрезал малахитовую воду и уходил на дно. От шнура бежали торопливыми струйками пузыри воздуха. Море дышало, — вода то подымалась, натягивая самолов, то опускалась, и тогда самолов провисал.
После речной ловли я не сразу привык к тому, что не надо было смотреть на поплавок. Поплавка на самолове вообще не было. Клев передавался по шнуру, как нервный дрожащий удар. Тогда надо было подсекать и быстро выбирать шнур.
Попадались большие черные бычки — «кнуты», мелкая камбала — «глосса», барабулька, морские окуни и ерши, будто сделанные из одной колючей кости.
Морские рыбы казались мне тогда загадочными. Они вырывались из глубины, трепеща, разбрасывая брызги, и падали на горячие камни волнолома, как существа из далекого прохладного мира. Все в них было удивительным, — не только радужный блеск и странная окраска, но и острый свежий запах. Может быть, так, думал я, пахнут коралловые рифы (хотя этих рифов на Черном море и не было). А может быть, они пахли пузыристыми морскими водорослями. Или морской водой с ее неиссякаемой свежестью. Запах этот был похож на дыхание озона после длинной и веселой грозы.
Барабулька, блестящая, как новенькие серебряные монеты, тотчас лиловела на воздухе и покрывалась красными пятнами. Морские окуни переливались, как перламутр, тончайшими и туманными красками, заключенными в морской воде, — от лазоревой до золотой и пурпурной. В раскраске окуней было что-то схожее с тускнеющим цветом