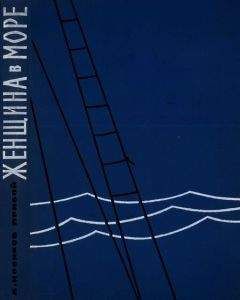В эти междупоходные промежутки времени мы восстанавливаем свои силы. Работы мало. Команда спит, ест, гуляет по городу, усердно ухаживает за женщинами. На базе, словно в трактире, то и дело раздается музыка: в офицерской кают-компании — рояль, а у нас в жилой палубе — гармошка, гитара, мандолина. Играют в домино и отчаянно ругаются. Многие увлекаются чтением книг с занимательной фабулой. Реже интересуются наукой. Над такими некоторые смеются:
— Брось, слышь, все равно скоро в дьявольское пекло попадешь… А там всем одна цена — и ученым и неграмотным…
Я только что проснулся и продолжал валяться на рундуках. На «Амуре» бьют четыре склянки. В открытые иллюминаторы протянулись полосы предвечернего солнца. Жарко.
Мой сосед справа, радиотелеграфный унтер-офицер Зобов, лежит на животе и занимается физикой. По временам он заносит на бумажку какие-то сложные математические вычисления. На его лысеющей голове — солнечный луч.
— Неужели тебе не надоело это? — спрашиваю я.
Зобов поднимает лобастое лицо, устало смотрит на меня. Широкие ноздри его шевелятся, точно обнюхивают меня.
— Хорошая книга — вентиляция для мозга.
А другой мой сосед, слева, моторист Залейкин, игривый и озорной, как дельфин, отвечает на это:
— Хорошая музыка — отрада для души.
И растягивает свою двухрядку с малиновыми мехами, насмешливо припевая:
У моево у милого
Морда огурешная,
Полюбила я его,
Прости, боже, грешная…
Играет гармошка, играет и веснушчатое лицо Залейкина, а в плутовато прищуренных глазах — молодая удаль.
— Облысеешь ты, Зобов, совсем, если не бросишь так заниматься, — говорю я.
— Это неважно, что на черепе будет пусто, лишь бы под черепом было густо.
Подальше от нас, вокруг электрика Сидорова, — несколько человек. Он рассказывает им:
— Столкнулся я с ней на улице, с монашкой-то этой. Просит на храм божий. Смотрю — брюнетистая бабенка, статная. Вся черная, точно из дымовой трубы выдернутая. Я ей в кружку — полтинник. Она жмет мою руку, а глазами стреляет в меня то залпом, то дуплетом. Приглашаю в трактир. Ломается — неудобно, вишь, ей. Кое-как затащил в номер. На столе бутылка ханжи и яичница с ветчиной. Я к монашке с поцелуями, а она, разомлевши, молитвы творит: «Ох, господи, прости мою душеньку окаянную». Потом обвила мою шею руками, точно петлю накинула, и шепчет: «Уж больно ты, матросик, горяч, да хранит тебя царица небесная…»
Около Сидорова возбужденный хохот.
Со стороны противоположного борта доносится шум голосов. Это две команды двух подводных лодок ведут между собою шутливую перебранку.
— Вы уходите в море только затем, чтобы на дне полежать…
— Это вы во время похода морское дно утюжите…
— Мы хоть два транспорта потопили, а вы что сделали?..
— Не транспорты, а два свиных корыта…
— Попадись вашему командиру неприятель — он затрясется, как бараний хвост…
— Ничего подобного! А вот ваш командир, это да! Во время сражения нужно команду отдавать, а он пальцем в носу квартиру очищает…
Гавань в напряженной работе — гудит, грохочет, лязгает железом.
Я давно привык к этому разнобою жизни, и мне скучно от него.
Достаю свою тетрадь со стихами. Нет, не пишется. Решаю показать свою поэзию Зобову. Он самый умный человек из всей команды.
— Это ты писал?
— Да.
Зобов прочитывает два-три стихотворения и возвращает мне тетрадь.
— Довольно.
— А что?
— Скучно.
Он зевает с каким-то особым завыванием, так что трещат его скулы и виден большой клыкастый рот. Противно смотреть на него и обидно за себя.
— Ты, Зобов, беспроволочная балда!
Моя ругань не задевает его. Наставительно заявляет:
— Ты пыжился над своими стихами, потел. А настоящий талант должен сам выпирать из человека, как хвост из павлина.
Я схватил фуражку и, словно ошпаренный, побежал к старшему офицеру, чтобы отпроситься в город.
Сколько еще может быть случайностей в моей жизни? В этот вечер я никуда не собирался уходить с базы. Но случайно дал свою тетрадь Зобову. А отсюда — новое знакомство, новое разветвление в моей душе.
Усиливается ветер. Ворчливо шумят деревья, точно от зависти к облакам, что плывут в небесном просторе, плывут неведомо куда.
Здесь, за городом, в этой роще, я встретился с молодой женщиной. Роста среднего, но проворная, как мадагаскарская ящерица. Брови — два полумесяца, а под ними — два горных озера, манящие синевой. От тоски ли это, но мне до смерти захотелось познакомиться с нею. Подкатываю к ней с правого траверза и барабаню по-матросски:
— Позвольте покрейсировать вместе с вами?
Женщина ощупала меня взглядом дольше, чем нужно, показала белые зубы и отвернулась.
Мне приходит мысль — бросить ей предлог, оправдание для прогулки со мною:
— Здесь бегает бешеная собака. Большая, страшная. Набрасывается на людей. Вы рискуете…
Она останавливается. На лице — притворный испуг.
— Нет, правда?
— Зачем же мне врать?
— В таком случае проводите меня, уж будьте так любезны.
— Рад стараться.
Разговорились.
Оказывается, она вдова. Муж убит на немецком фронте. Средства добывает швейной работой.
Мы прогуляли до ночи. Я отлично выдержал свою марку: вел себя настолько чинно и вежливо, что Полина Васильевна назначила мне новое свидание.
А когда подходил к своему судну, ветер старался сорвать с меня фуражку, а море угрюмо рокотало.
— О, я сам знаю, что делаю, и не боюсь этих угроз! — кричу я в темную даль.
В эту ночь я долго ворочался на рундуках: в мозгу флейтой звучал знакомый голос, а сердце хотело женской ласки, как пересохшая земля теплого дождика.
Скоро нам предстоит отправиться в поход.
С «Мурены» разносится по гавани дробный звук дизель-моторов. Пущены в действие динамо-машины. Весь корпус лодки охвачен лихорадочной дрожью, как алкоголик с похмелья. Это идет зарядка аккумуляторов. Запас электрической силы нам необходим при подводном плавании.
Машинное отделение наполнено гулом, стуком, воем. Иногда в этот шум врывается резкое шипение какого-нибудь открывшегося крана. Дизели, облитые смазочным маслом, блестят начищенной медью и сталью. Отдельные части их дергаются, как живые, скачут, пляшут, перебирают помпочками, шмыгают поршнями. Здесь жарко. Мотористы в рабочих платьях, пропитанных соляром, истекают потом.
В лодке чадно, несмотря на то что люки открыты. Пахнет резиной, перегаром соляра. Едкие газы пробираются в легкие, разъедают их. Сознание мутнеет, словно от угара.
Когда аккумуляторы достаточно зарядились, дизель-моторы замолчали. Стало тихо.
Но работа в лодке продолжается. Здесь почти вся команда. Каждый занимается своим делом: моют палубу и борта, чистят и приводят в порядок разные приборы, проверяют клапаны. За командой наблюдает старший офицер Голубев. Полный не по летам, он медленно, вразвалку, прохаживается от носа до кормы и с напускной серьезностью покрикивает:
— Поторопитесь, ребята! Еще немного — и обедать.
— Да уж пора бы, ваше благородие, — отвечает Залейкин. — А то кишка кишке начинает протоколы писать.
На гладко выбритом лице старшего офицера, под черными усиками — снисходительная улыбка.
Мое место на лодке — в носовом отделении, у балластной цистерны и минных аппаратов. Сейчас я вожусь с минами.
Я смотрю на мину, которую только что смазал салом. В ярком свете электрических ламп она жирно лоснится, игриво переливает огнями. Забавная игрушка, черт возьми! Длинная, круглая, с машиной внутри, с винтом и рулями на конце. Сама идет под водой, сама управляется и несет с собой около восьми пудов самого сильного взрывчатого вещества. А где-то есть люди, сотни людей: живут, пьют, едят, влюбляются, веселятся, грустят. И не подозревают, что их ожидает впереди. Быть может, в этой вот отполированной стали уже начертана для них неминуемая гибель, страшный провал в бездну. Одно мгновенье — и куски человеческого мяса, беспросветный мрак морской пучины. А дальше? В одной стране — неизбывная скорбь, слезы, попы пропоют печальные панихиды, а в другой — ликование, громкое «ура», и такие же попы, только наряженные по-другому, пропоют тому же богу благодарственные молебны, почадят перед ним кадилами…
Кто такую подлость придумал на земле?
Поповский дьявол тут ни при чем.
Лучше бы я не знакомился с Зобовым. Это он отравил мою душу ядом сомнения.
Вот он и сам здесь налицо. Покончил работу со своим аппаратом беспроволочного телеграфа и теперь стоит передо мною, длинный и нескладный, как собачья песня. А в лобастой голове крепкие мысли. Ехидно улыбается одним углом рта.
— Стараешься, Власов?
— Стараюсь.