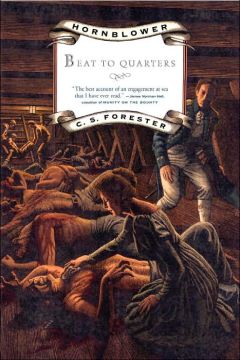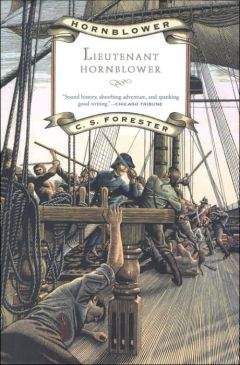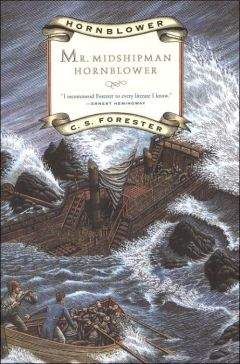Такелаж тихонько зашептал. Значит, ветер крепчает. Судя по холодку на шее и щеке – еще и отошел на румб или два. Едва отметив эти изменения и начав гадать, скоро ли заметит их Буш, Хорнблауэр услышал как зовут вахту. Мичман Клэй громогласно сзывал кормовую команду. Когда они покидали Англию, у мальчика ломался голос; с тех пор он научился им владеть, а не взвизгивать и хрипеть попеременно. Все так же не обращая видимого внимания на происходящее, не прерывая прогулки, Хорнблауэр вслушивался в привычную последовательность звуков. Вахта с топотом бежала к брасам на корму. Хлопок и вскрик сообщили Хорнблауэру, что боцман Гаррисон саданул тростью какого-то неповоротливого или просто незадачливого матроса. Гаррисон – отличный моряк, но у него есть одна слабость: обожает припечатать тростью хороший округлый зад. Всякий, на ком штаны сидят в обтяжку, вполне мог заработать рубец на заду единственно по этой причине; особенно если ему по обязанности случилось нагнуться в тот момент, когда Гаррисон проходит мимо.
Размышления о слабости Гаррисона занимали Хорнблауэра почти все время, что паруса брасопили по ветру; они оборвались в тот момент, когда Гаррисон выкрикнул «Стой!», и вахта побрела к своим прежним делам. Дин-дон, дин-дон, дин-дон, динь – пробил колокол. Семь склянок утренней вахты. Хорнблауэр уже перегулял свой установленный час и с удовлетворением чувствовал под рубашкой капельки пота. Он подошел к стоящему подле штурвала Бушу.
– Доброе утро, мистер Буш, – сказал капитан Хорнблауэр.
– Доброе утро, сэр, – сказал Буш, в точности как если бы капитан Хорнблауэр не прохаживался час с четвертью в четырех ярдах от него.
Хорнблауэр посмотрел на доску, где записаны показания лага за последние двадцать четыре часа. Ничего особенно примечательного – три узла, четыре узла с четвертью, четыре узла и так далее. Курсовая доска свидетельствовала, что все сутки корабль шел на северо-восток. Капитан чувствовал на себе пытливый взгляд первого лейтенанта, и знал, что тот изнывает от желания задать вопрос. Лишь один человек на борту знал, куда направляется «Лидия» – сам Хорнблауэр. Он вышел в море с запечатанными приказами, и, вскрыв их, согласно указаниям, на 30° N 20° W, не счел нужным ознакомить первого лейтенанта с их содержанием. Семь месяцев лейтенант Буш успешно перебарывал искушение спросить, но напряжение уже заметно сказывалось на нем.
– Кхе-хм, – Хорнблауэр прочистил горло. Ни слова не говоря, он повесил доску на место, спустился по трапу и вошел в спальную каюту.
Бушу не повезло. Хорнблауэр не опасался, что тот разболтает содержание приказов, и оставлял его в неведении совсем по иной причине. Хорнблауэр боялся собственной болтливости. Пять лет назад, впервые выйдя в море капитаном, он не сдерживал природной общительности, а тогдашний первый лейтенант, злоупотребляя проявленной капитаном слабостью, дошел до того, что обсуждал чуть ли не каждый его приказ. В прошлом плаванье Хорнблауэр постарался ограничить общение с первым лейтенантом рамками обычной вежливости, но обнаружил, что постоянно за них выходит. Стоило ему открыть рот, он, к своему последующему огорчению, успевал наговорить лишнего. На этот раз он вышел в море с твердым намерением (подобно зарекшемуся пить пьянице) ничего без необходимости не говорить, а приказы, настаивавшие на соблюдении строжайшей секретности, только укрепили его решимость. Семь месяцев он держал зарок, делаясь молчаливее день ото дня, пока противоестественная сдержанность не стала второй натурой. В Атлантическом океане он еще иногда беседовал с мистером Бушем о погоде. В Тихом он снисходил лишь до того, чтобы прочистить горло.
Крохотная спальная каюта была отгорожена от главной каюты переборкой. Одну половину ее занимала восемнадцатифунтовая пушка, на другой еле-еле помещались койка, письменный стол и сундук. Вестовой Полвил положил бритву и кожаную чашку на кронштейн под зеркальцем в переборке и вжался в письменный стол, давая капитану войти – два человека с трудом помещались в тесной каюте. Полвил ничего не сказал. За эту-то немногословность Хорнблауэр его и выбрал – даже в общении со слугами он вынужден был постоянно оставаться начеку, чтоб не впасть в навязчивый грех болтливости.
Хорнблауэр стянул мокрую рубашку и штаны, побрился, стоя нагишом перед зеркалом. Лицо, которое там отражалось, не было ни красивым, ни уродливым, ни молодым, ни старым.
Печальные карие глаза, довольно высокий лоб, довольно прямой нос; хороший рот, сжатый с твердостью, приобретенной за двадцать лет морской службы. Непослушные каштановые кудри уже начали редеть, отчего лоб казался еще более высоким. Это раздражало капитана Хорнблауэра, он с отвращением сознавал, что лысеет. Заметив это, он вспомнил и о другом источнике своих огорчений. Он посмотрел вниз на свое нагое тело. Он строен и мускулист – вполне приятная фигура, когда он распрямляется на все свои шесть футов. Но там, где кончались ребра, неопровержимо присутствовал округлый животик, уже выдававшийся за линию ребер и подвздошной кости. Хорнблауэр с редкой в его поколении силой не желал толстеть. Мерзко было думать, что его стройное гладкое тело обезобразит неприглядная выпуклость; вот почему он, человек в общем-то ленивый и внутренне чуждый распорядку, принуждал себя каждое утро прогуливаться по шканцам.
Он закончил бриться, отложил бритву и кисточку Полвилу для мытья, потом подождал, пока тот накинет ему на плечи ветхий саржевый халат. Вместе они вышли на палубу и подошли к баковой помпе. Там Полвил снял с него халат и принялся качать помпой соленую забортную воду, пока капитан сосредоточенно поворачивался под струёй. Когда душ был окончен, Полвил накинул халат на его мокрые плечи и следом за ним спустился в каюту. Чистая льняная рубашка (ветхая, но тщательно заштопанная) и белые штаны лежали на койке. Хорнблауэр оделся. Полвил подал ему потертый синий сюртук с потускневшим галуном и шляпу. Все это без единого слова, так Хорнблауэр вышколил себя, подчиняясь добровольному обету молчания. Ненавистник рутины, он, избавляясь от необходимости говорить, настолько закоснел в рутине, что как обычно вышел на палубу в точности с первым ударом восьми склянок.
– Все наверх экзекуцию смотреть? – спросил Буш, козыряя.
Хорнблауэр кивнул. Боцманматы засвистели в дудки.
– Все наверх экзекуцию смотреть! – орал Гаррисон с главной палубы, и вскоре со всех концов судна потянулись матросы, выстраиваясь в ряды на предписанных местах.
Хорнблауэр с каменным лицом застыл у шканцевых поручней. Он стыдился, что считает экзекуцию зверством, что назначает ее против воли и смотрит через силу. Две или три тысячи порок, виденные им за последние двадцать лет, ничуть его не ожесточили; напротив, он горестно сознавал, что теперь переносит их гораздо болезненнее, чем семнадцатилетним мичманом. Но сегодняшней порки было не избежать. Некий валлиец по имени Оуэн никак не мог отучиться плевать на палубу. Буш, не советуясь с капитаном, поклялся, что будет пороть его за каждый плевок, и Хорнблауэр, дисциплины ради, вынужден был своей властью скрепить это решение, даже сознавая, что обещанное наказание вряд ли пойдет впрок идиоту, которого не остановила угроза порки.