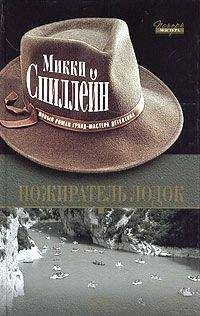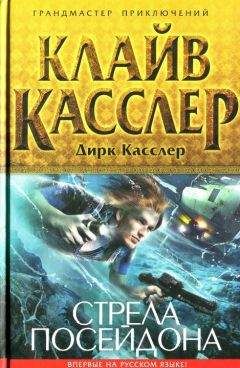Когда пробило две склянки средней вахты, то есть на языке суши — в час ночи, на баке проревели команду:
— Все наверх убавлять паруса!
Сонные матросы стали выкатываться со своих коек, натягивая одежду, непромокаемые куртки и сапоги, и — наверх, на палубу. Когда такая команда приходит в холодную бурную ночь, «Джек» мрачно бормочет: «Кто же не хотел бы продать ферму и отправиться на море?»
Только на палубе можно было вполне оценить силу ветра — особенно после душного бака. Он, казалось, стоял перед вами стеной и почти не давал дышать. Шхуна лежала в дрейфе под кливером, фока-зейлом и гротом. Мы принялись за опускание и крепление фока-зейла. Ночь была темная, что сильно затрудняло нашу работу. Хотя ни единая звезда не могла пронизать черные массы штормовых туч, затемнявших небо и гонимых ветром, природа все же слегка нам помогала. От океана исходил мягкий свет. Каждая громадная волна, вся фосфоресцирующая и светящаяся крохотными огоньками мириад бактерий, грозила залить вас огненным потоком. Выше и выше, тоньше и тоньше становился гребень, начиная загибаться и переливаться перед тем, как разбиться, пока с ревом не обрушивался на палубу массой мягкого блистающего света и тоннами воды. Валы сбивали матросов наземь и оставляли в каждом уголке и щели маленькие пятнышки света, сиявшие и трепетавшие, пока следующая волна не смывала их, оставляя на их месте новые. Иногда несколько валов, следующих один за другим и с грохотом падающих на нашу палубу, наполняли ее до самых бортов, но вскоре вода выливалась через шпигаты клюзов.
Чтобы взять риф на гроте, мы были вынуждены идти по ветру, под кливером с одним рифом. К тому времени, когда мы кончили, волнение стало таким сильным, что дрейфовать было нельзя. Мы понеслись на крыльях бури среди пены и летящих брызг. Поворот к штирборту, опять поворот на левый борт, а огромные валы все били и били в корму. Когда рассвело, мы убрали кливер, не оставив ни одного неубранного паруса. С той поры, как мы пошли носом на фордевинд, шхуна перестала забирать носом, но посредине судна волны перекатывались часто и бурно. Шторм был без дождя, но сильный ветер наполнял воздух тонкой водяной пылью, которая носилась до высоты краспиц-салингов и резала лицо, как ножом, не давая возможности видеть на сто ярдов впереди. Море было темно-свинцового цвета; его длинные, медленные, величественные валы взбивались ветром в жидкие горы пены. Дикие прыжки шхуны, когда она продвигалась, были ужасны. Она почти останавливалась, как бы взбираясь на гору, и, достигши верхушки огромной волны, кренилась и задерживалась на мгновенье, как бы испуганная зияющей перед нею пропастью. Словно лавина, неслась она вперед, когда волна с кормы ударяла ее с силой тысячи таранов, и зарывалась носом до крамболов в молочную пену, покрывавшую всю палубу и стекавшую через клюзы и поверх поручней.
Наконец ветер стал спадать, и к десяти часам мы говорили о том, чтобы лечь в дрейф. Мы прошли мимо корабля, двух шхун и четырехмачтовой баркентины и в одиннадцать часов, подняв контра-бизань и кливер, легли в дрейф, а еще через час шли обратно против зыби под полными парусами, чтобы вернуться к месту лова тюленей на запад.
Внизу двое зашивали тело «каменщика» в парусину, приготовляя его к погребению в море. Так, вместе с бурей, отошла душа «каменщика».
1893