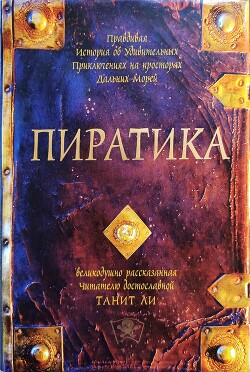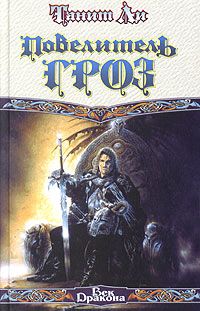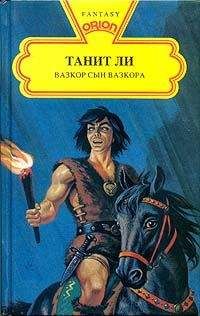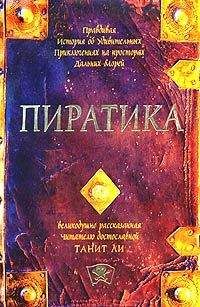Из окон главного здания пробивался желтый свет. Его слабые лучи выхватили из темноты пышное убранство Землевладельца, — расшитый золотом камзол, жилет с золотыми пуговицами, увенчанную серебряным набалдашником трость, идеально напудренный парик…
Трепеща как бабочки, Злыдня мисс Злюк и Хваткая мисс Хватс — директриса Академии — провели Уэзерхауса анфиладой сверкающих коридоров.
— Она здесь, внутри.
— Так впустите же меня к ней, мадам.
— Ох, сэр… вы думаете…
— Замолчите и отойдите, — приказал Землевладелец Уэзерхаус, грубостью способный перещеголять кого угодно.
Но почтенные дамы не собирались так легко сдаваться.
— Сэр… она, быть может, опасна…
— Даже вооружена…
— Или…
— Замолчите же! Заткнитесь! А не можете, так проваливайте!
Мисс З. и мисс X. поспешно упорхнули. Уэзерхаус толчком распахнул дубовую дверь.
— Черт побери! Это еще что такое?!
Артия, сидевшая у камина, лениво обернулась и бросила равнодушный взгляд на разъяренного, раззолоченного краснолицего человека в дверях — своего отца.
Еще вчера, если бы он ворвался к ней в таком гневе, она бы расплакалась и виновато потупила глаза.
Но теперь — совсем другое дело. Теперь его бешенство вызвало у нее лишь презрительную улыбку.
— Какого черта ты ухмыляешься?! Погляди на себя! Шесть лет я держу тебя в этом заведении, чтобы воспитать из тебя, моряцкое отродье, настоящую леди. То есть, чтобы тебя улучшили, а не испортили вконец.
— А что, сэр, разве я испортилась? — всё так же лениво осведомилась Артия, протягивая к огню длинные ноги. На ней были мужские штаны, грубые сапоги, белая рубашка и залатанный камзол из потускневшего бархата. Распущенные волосы не были завиты, и среди свежевымытых каштановых локонов поблескивала та самая прядь оранжевого, словно бархатцы, огня, которую Землевладелец Уэзерхаус впервые заметил шесть лет назад.
— Ты вся в свою мать.
— Моя мама была очень хорошей.
— Но не для меня!
— Тогда что же ты, папа, в нее втюрился?
— Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне?!
— А что я такого сказала? Ведь ты же на ней женился.
Уэзерхаус взревел.
От рева его содрогнулись позолоченные гипсовые плоды и виноградные лозы на потолке.
Артия равнодушно пожала плечами, достала из кармана мелкое зимнее яблоко и принялась с аппетитом хрустеть, глядя, как ее отец мечется по комнате, колотя тростью по ножкам стульев.
— Разве ты не знаешь, что твоя негодная мать — Молли — была самой худшей из всех самых худших женщин на свете?!
— Она была пиратом!
— Можешь назвать и так. Если хочешь…
Артия встала:
— Она говорила, что никогда не убила ни единого человека, только отбирала у них богатства. И это правда!
— Выброси из головы эту чушь! — Любое проявление несогласия с его собственной точкой зрения выводило Землевладельца из себя.
— Пушка взорвалась. Это я вспомнила. А потом снова ничего не помню. Шесть лет я прозябала здесь. В этой школе, как в тюрьме, среди идиотских кудрявых дурочек. И вы, сэр, еще говорите о чуши, — воскликнула Артия, сверкая глазами, холодными, как сталь. — Вот где настоящая чушь!
— Где ты достала эти позорные тряпки?
Артия расхохоталась.
— Взяла у конюхов. Их лучшие воскресные костюмы. А рубашку и куртку выпросила у школьного носильщика. Я заплатила и ему, и прачке. Извини уж, твоими деньгами, ты ведь всё равно мне их отдал.
— Я дал их тебе на новое платье…
— Так вот же оно, мое новое платье!
Уэзерхаус облокотился о каминную полку и впился в дочь пылающим взглядом. До чего же она сейчас напоминала ему его бывшую жену Молли Фейт!
— Если ты так хорошо всё помнишь, то не забыла ли ты, девочка, какой беспечной вертихвосткой была твоя мамаша?
Артия резко — словно кошка, встретившая другого, чужого, ненавистного кота, — обернулась. Уэзерхаус, забыв про гнев, разинул рот.
— Моя мать, сэр, была Владычицей Дальних Морей, Королевой Пиратов, и командовала флотом из двадцати кораблей!
— Этот спектакль… это ложь…
— Ее имя, сэр, до сих пор гремит по всему миру! И звали ее не Молли, и не Фейт, не называли ее и твоим именем, папа, которое она взяла после свадьбы.
— Она была обыкновенной…
Артия передернула плечами. Из ее глаз выкатились две прозрачные слезинки. Но они не придавали ей слабости.
Слезы блестели у нее на щеках, как крошечные серебряные медальки, выкованные глазами из гордости.
— Ее называли Пиратика.
— Опомнись. Какая еще Пиратика! — Уэзерхаус, жалкий и в то же время ожесточившийся, презрительно фыркнул. — Она мертва! Настолько же мертва, как и та картонная мелодрама, которой была вся ее жизнь. Мертва и погребена — можно сказать, пошла на корм рыбам.
— Знаю…
— А что касается тебя, Артемизия, то слушай мой приказ. Надеюсь, тебе в этой комнате удобно. Потому что здесь ты и останешься, девочка моя, пока не придешь в чувство. Тюрьма, говоришь? Тогда тебя в ней запрут. Без еды, без изысканных дамских штучек, без чая, без кофе, шоколада и сока. Только чашка воды в день. И без дров для камина!
— Поздравляю тебя с Рождеством, — сказала Артия.
— Довольно! — прорычал Землевладелец Уэзерхаус. — Я этого на всю жизнь нахлебался с Молли. От тебя я наглости не потерплю!
Когда за ним захлопнулась дверь, Артия прошептала, глядя в огонь:
— И она тоже была сыта вами по горло, сэр. Вот почему она тебя бросила и взяла меня с собой, когда я была совсем маленькой. Я потеряла шесть лет жизни. С меня тоже довольно!
Она поворошила кочергой в камине, потом достала ее, почерневшую от жара и копоти, и черным концом написала на белой стене над камином настоящее имя своей матери.
2. Розовый — цвет девушек
Где-то далеко в ночной тиши послышался протяжный рев. Это трубил олень, то ли в лесу, то ли на Пустоши.
За окном белыми хлопьями падал снег.
Огонь в камине давно угас, и в запертой комнате с каждой минутой становилось всё холоднее. Но Артия не обращала внимания на холод. Несмотря на отцовские слова, несмотря на запертые окна и двери, она намеревалась любой ценой выбраться отсюда. Поэтому пора было привыкать к переменам климата.
В эту минуту, точно так же, как и всё утро, как и весь день, она снова и снова воскрешала в памяти всё, что могла вспомнить. Образы один за другим вставали перед глазами: сочные и живые, будто нарисованные в мозгу яркими красками.
Она видела море — спокойную синеву ясных дней, салатово-зеленую рябь, буйные волны штормов, когда небо затягивалось черными тучами, а от громовых раскатов содрогались мачты. Тогда корабль бешено раскачивался, будто норовил сбросить ее за борт и перевернуться. Боялась ли Артия? Может быть, но только однажды. Это было одно из самых первых ее воспоминаний. Молли стоит, ухватившись за снасти, и держит на руках маленькую Артию — той два или три года. «Какое зрелище! — восклицает Молли. — Смотри, как красиво! — А потом говорит: — Никогда не бойся моря. Оно — наш лучший друг. Лучше всякой земли, даже самой щедрой. Относись к морю с уважением, но никогда не считай его жестоким или несправедливым. Жестокими бывают только люди. А море — оно всегда море. Наш корабль — везучий. Он с морем в ладах. Они знают, как держаться друг за друга. — Но тут на палубу, затянутую брезентом, обрушивается зеленая стена воды. Команда цепляется за мачты, будто стая обезьян. Артия и Молли промокают до нитки, и Молли говорит: — И даже если мы пойдем ко дну, всё равно не бойся. Те, кого поглотит море, спят среди русалок, жемчугов и затонувших королевств. Тебе бы там понравилось, правда, милая?»
Но счастливый корабль Молли…
Стоп! Не сейчас. Об этом вспоминать еще рано.
Вместо этого Артия воскрешает в памяти «щедрые» земли, редкие высадки на берег. Мать брала ее в белые дома со стройными колоннами, где их встречали любезные губернаторы, довольные богатством, которое приносили им пираты. Они приглашали Молли и ее команду на обед или на танцы. Артия часто сидела в бархатном кресле и смотрела, как мать, в бисере и браслетах, в пышном алом или зеленом платье, кружится в танце с губернатором или с другими роскошно одетыми мужчинами. Их кормили удивительными яствами, угощали мороженым, в бокалах искрилось, как алмазная пыль, настоящее шампанское, а на террасах среди высоких пальм, увешанных звездами, Моллины спутники с изысканными речами уводили целовать прекрасных дам. Все любили Молли и ее пиратов. Когда они бросали якорь в порту, их неизменно встречали аплодисментами и радостными криками, а сундуки на палубах были до краев полны драгоценностями и монетами — рубинами, изумрудами, золотыми мухурами, франкоспанскими песо по восемь реалов в каждом…