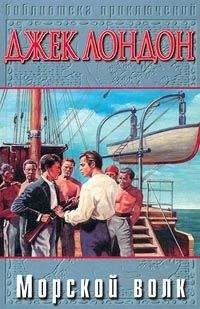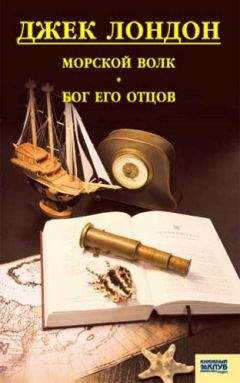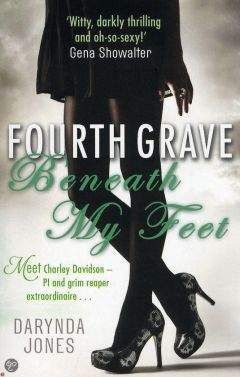Когда я заговорил, он поднял на меня глаза и спокойно ждал конца моей вспышки. Наконец я умолк, запыхавшийся и смущенный. Помолчав минуту, словно собираясь с мыслями, он сказал:
– Хэмп, знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел на ниву? Ну-ка, припомните: «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, его обожгло, и, не имея корня, оно засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его».
– Ну, и что же? – сказал я.
– Что же? – насмешливо переспросил он. – Да ничего хорошего. Я был одним из этих семян.
Он наклонился над чертежом и снова принялся за работу. Я закончил уборку и взялся уже за ручку двери, но он вдруг окликнул меня:
– Хэмп, если вы посмотрите на карту западного берега Норвегии, вы найдете там залив, называемый Ромсдаль-фьорд. Я родился в ста милях оттуда. Но я не норвежец. Я датчанин. Мои родители оба были датчане, и я до сих пор не знаю, как они попали в это унылое место на западном берегу Норвегии. Они никогда не говорили об этом. Во всем остальном в их жизни не было никаких тайн. Это были бедные неграмотные люди, и их отцы и деды были такие же простые неграмотные люди, пахари моря, посылавшие своих сыновей из поколения в поколение бороздить волны морские, как повелось с незапамятных времен. Вот и все, больше мне нечего рассказать.
– Нет, не все, – возразил я. – Ваша история все еще темна для меня.
– Что же еще я могу рассказать вам? – сказал он мрачно и со злобой. – О перенесенных в детстве лишениях? О скудной жизни, когда нечего есть, кроме рыбы? О том, как я, едва научившись ползать, выходил с рыбаками в море? О моих братьях, которые один за другим уходили в море и больше не возвращались? О том, как я, не умея ни читать, ни писать, десятилетним юнгою плавал на старых каботажных судах? О грубой пище и еще более грубом обращении, когда пинки и побои с утра и на сон грядущий заменяют слова, а страх, ненависть и боль – единственное, что питает душу? Я не люблю вспоминать об этом! Эти воспоминания и сейчас приводят меня в бешенство. Я мог бы убить кое-кого из этих каботажных шкиперов, когда стал взрослым, да только судьба закинула меня в другие края. Не так давно я побывал там, но, к сожалению, все шкиперы поумирали, кроме одного. Он был штурманом, когда я был юнгою, и стал капитаном к тому времени, когда мы встретились вновь. Я оставил его калекой; он никогда уже больше не сможет ходить.
– Вы не посещали школы, а между тем прочли Спенсера и Дарвина. Как же вы научились читать и писать?
– На английских торговых судах. В двенадцать лет я был кают-юнгой, в четырнадцать – юнгой, в шестнадцать – матросом, в семнадцать – старшим матросом и первым забиякой на баке. Беспредельные надежды и беспредельное одиночество, никакой помощи, никакого сочувствия, – я до всего дошел сам: сам учился навигации и математике, естественным наукам и литературе А к чему все это? Чтобы в расцвете сил, как вы изволили выразиться, когда жизнь моя начинает понемногу клониться к закату, стать хозяином шхуны? Жалкое достижение, не правда ли? И когда солнце встало – меня обожгло, и я засох, так как рос без корней.
– Но история знает рабов, достигших порфиры, – заметил я.
– История отмечает также благоприятные обстоятельства, способствовавшие такому возвышению, – мрачно возразил он. – Никто не создает эти обстоятельства сам. Все великие люди просто умели ловить счастье за хвост. Так было и с Корсиканцем. И я носился с не менее великими мечтами. И не упустил бы благоприятной возможности, но она мне так и не представилась. Терние выросло и задушило меня. Могу вам сказать, Хэмп, что ни одна душа на свете, кроме моего братца, не знает обо мне того, что знаете теперь вы.
– А где ваш брат? Что он делает?
– Он хозяин промыслового парохода «Македония» и охотится на котиков. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют Смерть Ларсен.
– Смерть Ларсен? – невольно вырвалось у меня. – Он похож на вас?
– Не очень. Он просто тупая скотина. В нем, как и во мне, много... много...
– Зверского? – подсказал я.
– Вот именно, благодарю вас. В нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.
– И никогда не философствует о жизни? – добавил я.
– О нет, – ответил Волк Ларсен с горечью. – И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу.
«Призрак» достиг самой южной точки той дуги, которую он описывает по Тихому океану, и уже начинает забирать к северо-западу, держа курс, как говорят, на какой-то уединенный островок, где мы должны запастись пресной водой, прежде чем направиться бить котиков к берегам Японии. Охотники упражняются в стрельбе из винтовок и дробовиков, а матросы готовят паруса для шлюпок, обивают весла кожей и обматывают уключины плетенкой, чтобы бесшумно подкрадываться к котикам, – вообще «наводят глянец», по выражению Лича.
Рука у Лича, кстати сказать, заживает, но шрам, как видно, останется на всю жизнь. Томас Магридж боится этого парня до смерти и, как стемнеет, не решается носа высунуть на палубу. На баке то и дело вспыхивают ссоры. Луис говорит, что кто-то наушничает капитану на матросов, и двоим доносчикам уже здорово накостыляли шею. Луис боится, что Джонсону, гребцу из одной с ним шлюпки, несдобровать. Джонсон говорит все слишком уж напрямик, и раза два у него уже были столкновения с Волком Ларсеном из-за того, что тот неправильно произносит его фамилию. А Иогансена он как-то вечером изрядно поколотил, и с тех пор помощник не коверкает больше его фамилии. Но смешно думать, чтобы Джонсон мог поколотить Волка Ларсена.
Услышал я от Луиса кое-что и о другом Ларсене, прозванном Смерть. Рассказ Луиса вполне совпадает с краткой характеристикой, данной капитаном своему брату. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. «Ждите шквала, – предрекает Луис, – они ненавидят друг друга, как настоящие волки».
Смерть Ларсен командует «Македонией», единственным пароходом во всей промысловой флотилии; на пароходе четырнадцать шлюпок, тогда как на шхунах их бывает всего шесть. Поговаривают даже о пушках на борту и о странных экспедициях этого судна, начиная от контрабандного ввоза опиума в Соединенные Штаты и оружия в Китай и кончая торговлей рабами и открытым пиратством. Я не могу не верить Луису, он как будто не любит привирать, и к тому же этот малый – ходячая энциклопедия по части котикового промысла и всех, кто этим занимается.
Такие же стычки, как в матросском кубрике и в камбузе, происходят и в кубрике охотников этого поистине дьявольского корабля. Там тоже драки и все готовы перегрызть друг другу глотку. Охотники ежемиминутно ждут, что Смок и Гендерсон, которые до сих пор не уладили своей старой ссоры, сцепятся снова, а Волк Ларсен заявил, что убьет того, кто выйдет живым из этой схватки. Он не скрывает, что им руководят отнюдь не моральные соображения. Ему совершенно наплевать, хоть бы все охотники перестреляли друг друга, но они нужны ему для дела, и поэтому он обещает им царскую потеху, если они воздержатся от драк до конца промысла: они смогут тогда свести все свои счеты, выбросить трупы за борт и потом придумать для этого какие угодно изъяснения. Мне кажется, что даже охотники изумлены его хладнокровной жестокостью. Несмотря на всю свою свирепость, они все-таки боятся его.