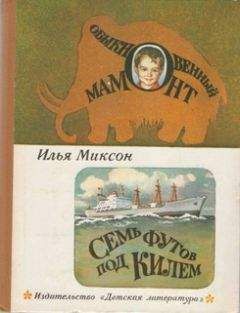Через несколько недель после этого я был на даче у своих друзей на Пьедмонтских холмах над бухтой Сан-Франциско. «Нашли его, все-таки нашли,
— смеялись они. — Поймали на дереве; только он довольно ручной, и его можно будет кормить из рук. Иди скорее, посмотри!». Я взобрался с ними вместе на крутой холм, и там, в плохоньком шалаше среди эвкалиптовой рощи, увидел своего сожженного солнцем пророка.
Он поспешил к нам навстречу, прыгая и кувыркаясь в траве. Он не стал пожимать нам руки, его приветствие выразилось самыми необычайными телодвижениями. Он перевернулся несколько раз через голову, извивался как змея, а потом поднял ноги вверх и быстро пробежался перед нами на руках. Он крутился и прыгал и танцевал вокруг, как опьяневшая от вина обезьяна. Это была песня без слов о его горячей солнечной жизни. Как я счастлив, как я счастлив, — означала она.
И он пел ее весь вечер с бесконечными вариациями. «Сумасшедший, — подумал я. — Я встретил в лесу сумасшедшего». Но сумасшедший оказался интересным. Прыгая и кувыркаясь, он изложил свое учение, которое должно было спасти мир. Оно состояло из двух основных заповедей. Прежде всего страдающее человечество должно содрать с себя одежды и носиться в первобытном виде по горам и долинам; а затем — несчастный мир должен усвоить фонетическое правописание. Я попробовал представить себе всю сложность социальной проблемы, которая возникнет, когда жители городов начнут бегать по окрестностям, а взбешенные фермеры будут гоняться за ними с ружьями, собаками и вилами.
Прошло несколько лет, и вот в одно солнечное утро «Снарк» просунул свой нос в узкий проход между коралловыми рифами перед бухтой Папеэте. Навстречу нам шла лодка с желтым флагом. Мы знали, что это направляется к нам портовый доктор. Но на некотором расстоянии от нее показались очертания другой небольшой лодочки, которая заинтересовала нас, потому что на ней был поднят красный флаг. Я внимательно рассматривал лодку в бинокль, боясь, что она означает какую-нибудь скрытую опасность — затонувшее судно или что-нибудь в этом роде. В это время причалил доктор. Он осмотрел нас, удостоверился, что мы не скрываем на «Снарке» живых крыс, а когда кончился осмотр «Снарка», я спросил доктора, что означает лодка с красным флагом.
— О, это Дарлинг, — был ответ.
И тогда сам Дарлинг, Эрнст Дарлинг, из-под красного флага, обозначающего братство народов, окликнул нас:
— Алло, Джэк! Алло, Чармиан!
Он быстро приближался, и я узнал в нем золотого пророка с Пьедмонтских холмов. Он поднялся на борт, как золотой бог солнца, с ярко-красной повязкой вокруг бедер и с дарами Аркадии в обеих руках, — бутылкой золотого меда и корзиной из листьев, наполненной золотыми плодами манго, золотыми бананами, золотыми ананасами, лимонами и апельсинами — золотым соком земли и солнца. И вот таким-то образом я еще раз под небом тропиков встретил Дарлинга, человека, вернувшегося в природу.
Таити — одно из самых красивых мест на земном шаре. К сожалению, оно населено ворами, грабителями и лжецами, — впрочем, и кучкой порядочных людей. И вот, так как изумительная красота Таити разъедается ржавчиной человеческих мерзостей, мне хочется писать не о Таити, а о человеке, вернувшемся в природу. От него, по крайней мере, веет здоровьем и свежестью. Вокруг него особенная атмосфера доброты и ясности, которые никому не могут сделать зла и никого не заденут, кроме, конечно, хищнических и наживательских чувств капиталистов.
— Что означает ваш красный флаг? — спросил я.
— Социализм, разумеется.
— Ну, да, конечно, это я знаю, — продолжал я. — Но что означает он в ваших руках?
— То, что я нашел истину.
— И проповедуете ее на Таити? — спросил я недоверчиво.
— Ну, конечно, — ответил он просто. Впоследствии я убедился, что так и было.
Когда мы бросили якорь, опустили шлюпку и высадились на берег, Дарлинг сопровождал нас.
«Ну, — подумал я, — вот теперь этот сумасшедший совершенно изведет меня. Ни во сне, ни наяву он не оставит меня в покое, пока мы опять не снимемся с якоря».
Но никогда в жизни я не ошибался до такой степени. Я нанял себе домик, где жил и работал, и ни разу этот человек, это дитя природы, не пришел ко мне без приглашения. Он часто бывал в то же время на «Снарке», завладел нашей библиотекой, придя в восхищение от большого количества научных книг и возмущаясь (как я узнал впоследствии) подавляющим скоплением в них фиктивной научности. Люди, вернувшиеся в природу, конечно, не теряют времени на фикции.
Через неделю во мне заговорила совесть, и я позвал его обедать в один из городских отелей. Он явился в куртке из бумажной материи, в которой, очевидно, очень скверно себя чувствовал. Когда я предложил ему снять ее, он просиял от радости и сейчас же сделал это, обнажив свою солнечную, золотую кожу, покрытую фуфайкой из тонкой рыбачьей сетки. Ярко-красная повязка вокруг бедер дополняла его костюм. С этого вечера началось наше знакомство, перешедшее в настоящую дружбу за время моего продолжительного пребывания на Таити.
— Так вы, значит, пишете книги? — сказал он однажды, когда я, усталый и вспотевший, заканчивал свою утреннюю работу. — Я тоже пишу книги, — объявил он.
«Ага, — подумал я, — вот когда он меня изведет — он будет читать мне все свои литературные произведения».
И я уже заранее возмущался. Не для того же я проехал все Южные моря, чтобы фигурировать здесь в качестве литературного бюро.
— Вот книга, которую я пишу! — воскликнул он, звучно ударив себя в грудь сжатым кулаком. — Горилла африканских лесов доводит свою грудную клетку до такого совершенства, что удар по ней слышен за полмили.
— У вас тоже недурная грудь, — сказал я с восхищением, — ей, пожалуй, и горилла позавидует, В этот день и следующие я узнал подробности о необыкновенной книге, которую написал Эрнст Дарлинг. Двенадцать лет тому назад он был при смерти. Он весил девяносто фунтов и был так слаб, что не мог говорить. Доктора отступились от него. Отец его, опытный практикующий врач, тоже от него отказался. Все консультации единогласно заявляли, что надежды нет. Его свалили переутомление (он был преподавателем в школе и в то же время сам учился в университете) и два воспаления легких. День ото дня он терял в весе. Его организм не усваивал тяжелых питательных веществ, которыми пичкали его окружающие, и никакие пилюли и порошки не могли помочь его пищеварению. Он стал не только физическим калекой, но и духовным. Его сознание омрачилось. Он был болен и устал от лекарств; он был болен и устал от людей. Человеческая речь раздражала его. Человеческое внимание приводило его в ярость. Тогда ему пришла в голову мысль, что раз ему все равно придется умереть, то уж лучше умереть на свободе. А может быть, за всем этим пряталась маленькая надежда, что он и не умрет, если только ему удастся сбежать от «питательной» пищи, лекарств и добродетельных людей, которые приводили его в ярость.