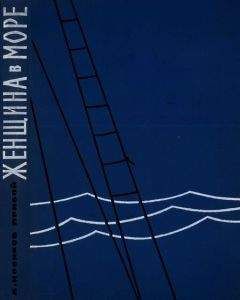— Видите эту мерзость?
Штурман поднялся с койки.
— Вижу. А еще что?
— Вырежьте ее к черту! Не могу больше с такой шишкой ходить!
— Почему?
Кочегар не сразу нашелся, что ответить.
— Мешает она мне работать.
— Как мешает?
— Ну, так и мешает.
Штурман Глазунов шире открыл глаза.
— Что-то у вас, товарищ Перекатов, неладно в голове. Сегодня случайно вас никто не огрел по затылку?
Кочегар взмолился:
— Будет вам шутить, Иннокентий Григорьевич. Я серьезно прошу: уважьте мою просьбу.
— К доктору обратитесь, когда приедем в порт. А я не хирург.
— Да я прошу вас не в печенках операцию сделать, а всего только шишку отрезать. Тут ведь и без хирурга можно обойтись.
Штурман был неумолим.
Кочегар, уходя, хлопнул дверью.
Разыскал плотника Артамона Хилкова, пошел с ним в каюту.
— Хочешь получить бутылку коньяку? Или еще что на твой выбор?
Плотник недоверчиво спросил:
— Это за что же такая милость?
— Мало одной — две поставлю, в первом же порту поставлю.
— Да за что?
— За пять минут работы.
— Говори.
Кочегар, указывая рукой на лоб, взволнованно сказал:
— Будь, Артамоша, другом: вырежь мне этот проклятый нарост.
Плотник покачал головой.
— Дело тут серьезное. Без привычки, пожалуй, не справиться мне.
— Чепуха! Ты мастер! Рука у тебя верная. Шкафы можешь делать. А с шишкой справиться, — это все равно что сучок с доски стругнуть.
Хилков ухмыльнулся от похвалы.
— А в случае чего в ответе не буду?
— Да я скорее сдохну, чем подвести кого.
— Говоришь — две бутылки можешь поставить?
— Факт! Мое слово крепче олова: то гнется, а мое слово никогда. Это тебе известно.
— Ладно.
Принесли кипятку, положили в него только что наточенную бритву. Приготовили чистых тряпок. Плотник, готовясь к операции, засучил рукава, вымыл руки. Кочегар, ложась на койку, попросил:
— Как будешь резать, ты кожу немного засвежуй. А то нельзя будет рану зашить.
— Не беспокойся, дружок. Разделаю тебя за милую душу. Любой профессор позавидует.
Когда острие бритвы коснулось живого мяса, Перекатов оскалил крепко стиснутые зубы. Тело его покрылось холодной испариной, а по бледному лицу заструились тонкие ручейки крови, попадая и в глазные впадины. Он зажмурился. Операция длилась долго. Казалось, холодное лезвие стали разрушило лобную кость, добралось до мозга. Нестерпимая боль простреливала нервы. Ощущалась тошнота до судороги в желудке, точно он наглотался отравы. Кочегар крепился и лежал не двигаясь, безмолвный как дерево. Подбадривал себя мыслью: теперь никто не посмеет над ним смеяться, и при встрече с женщинами ему уже не будет надобности надвигать на глаза кепку, чтобы скрыть противный нарост.
Плотник, заканчивая операцию, ухватился за подрезанную вокруг шишку и дернул ее с такой силой, что голова кочегара взметнулась вверх.
Перекатов вскочил и закачался, как пьяный.
— Готово, дружок! — сказал плотник. — Главное я сделал. А заштопать рану — это и штурманишка может.
На следующий день «Октябрь» бросил якорь в немецком порту. По заявлению старшего механика нужно было кое-что купить для машинного отделения. Пришлось задержаться на сутки.
Часть экипажа была отпущена на берег.
Капитан Абрикосов, встретив в кают-компании Таню, спросил:
— А вы почему не погуляете?
— Спасибо, капитан. Если можно, я с удовольствием посмотрю, как немцы живут.
— А деньги у вас есть?
— Не успела еще заработать.
— Ну, это дело поправимо.
Капитан обратился к первому помощнику, заведовавшему кассой и судовой отчетностью:
— Анатолий Гаврилович, выдайте Тане авансом месячное жалованье.
Буфетчицу сопровождали двое: Гинс и Бородкин. Прежде всего поразило ее огромнейшее количество кораблей, находившихся в гавани. Тут были суда со всех частей света. Одни из них набивали свои объемистые трюмы немецким товаром, другие разгружались. Голоса разноплеменных людей тонули в лязге железа, в грохоте подкатывающихся поездов и ломовых подвод, в завываниях сирен и гудков. Не было отбоя от нищих. Эта изголодавшаяся голытьба, состоявшая из мужчин и женщин, пожилых и подростков, назойливо лезла на каждый корабль, приставала к матросам, выпрашивая хлеба или денег. Гинс пояснил Тане:
— Никогда этого не было здесь до войны. А теперь — эх, и круто многим приходится!
После пустынного моря еще больше взволновал город. Жизнь показалась необычайно шумной и суетливой. Гудели трамваи, разнотонно рыкали автомобили, уносясь куда-то с бешеной поспешностью. По тротуарам переливались потоки людей. Таня испытывала странное чувство: как-то не верилось, что еще так недавно между русскими и немцами происходила самая жестокая и беспощадная схватка. А теперь можно гулять среди бывших врагов, никого не боясь. И когда заходили в роскошные магазины, сверкавшие зеркальными витринами, служащие, предлагая товар, так мило улыбались ей.
Побывала она и в ресторане. Оба кавалера, угощая ее, старались перещеголять друг друга. При этом все преимущества оставались на стороне Гинса. Он как немец свободно болтал со своими соотечественниками, рассказывал Тане об их жизни. Бородкин оказался в глупом положении. У него остался один только козырь: это — то, что он был холостой. Он решил воспользоваться этим.
— Ты вот, товарищ Гинс, веселишься здесь. Музыку слушаешь, пиво на столе, пирожное. А твоя семья поди в нужде бьется.
— То есть какая это семья? — растерявшись, спросил Гинс.
— А та семья, что в документах прописана, — жена и дети.
Таня насторожилась.
Гинс посмотрел на товарища исподлобья.
— Мозги в твоей башке съехали набекрень. Поправь их: сначала да иди со своими наставлениями к длинноухим животным. А я и без тебя знаю, что нужно делать.
— Ты вроде как сердишься, а я ведь правду говорю.
— Нужна мне твоя цыганская правда, как блоха в кубрике.
Таня рассмеялась:
— Хорошие вы ребята, а вечно язвите друг друга, как враги какие. Я хочу, чтобы вы были веселые.
Она, как цирковая укротительница зверей, хлопнула по руке одного, а потом другого. Оба матроса заулыбались.
На судно вернулись поздно вечером.
В своем маленьком помещении Таня нарядилась в обновку. И только после этого вошла в кают-компанию. Большинство из командного состава сидело за столом, распивая чай. Прислуживала Василиса, пасмурная, с таким недовольным видом, точно она держала во рту отвратительное лекарство, не решаясь проглотить его.
— Приятного аппетита, товарищи!
Все оглянулись. То, что они увидели, многих изумило. У порога стояла не прежняя скромная буфетчица в красной повязке. На момент показалось, что на судно неожиданно явилась знатная иностранка. Она была в голубом, как тропическое море, платье, с короткими рукавами, с вырезом на груди. Из-под широких полей шляпки, украшенной незабудками, радостно блестели золотистые глаза.
— Вас, Татьяна Петровна, узнать нельзя, — заговорил старший механик, впервые назвавший ее по имени и отчеству.
А третий штурман, как самый молодой, вскочил и громко воскликнул:
— Неужели это наша уважаемая Татьяна Петровна? Не верю своим глазам!
Дружно посыпались похвалы, восторги перед нарядом буфетчицы, причем, кроме капитана, все величали ее по имени и отчеству.
Кают-компания наполнилась ликующим шумом.
Только Василиса сердито фыркала:
— На буржуйку стала похожа. Ничего хорошего в этом нет. А к слову сказать — меня это не касается. Я отдежурила за тебя.
Она вышла и, поднимаясь по трапу, прошипела:
— Даже и эти распробабились совсем.
Буфетчицу усадили за стол и стали угощать печеньем я фруктами. Теперь и комсоставу не стыдно было поухаживать за ней.
В кают-компанию под каким-нибудь предлогом спускались матросы. Чтобы задержаться подольше, обращались к персоналу с нелепыми вопросами. Пришел и Максим Бородкин, успевший нарядиться в серый, только что купленный костюм. Бросив на Таню тоскующий взгляд, он обратился к Салазкину:
— За лекарством пришел к вам, товарищ штурман.
— А что с вами?
— Тошнит что-то, — ответил Бородкин и покраснел от непривычки врать.
Принимая какие-то капли, разведенные с водой, он поперхнулся, закашлялся и как ошалелый выскочил из кают-компании.
Матросы, стоявшие у камбуза, очень обрадовались, когда пришла к ним буфетчица. Некоторые из них были под хмельком, но старались казаться трезвыми. Все заговорили с ней наперебой.
Подошел, покачиваясь, плотник Хилков.
— А, товарищ Таня! Краса и гордость нашего «Октября»!
— Что это вас бросает так из стороны в сторону? — спросила Таня.