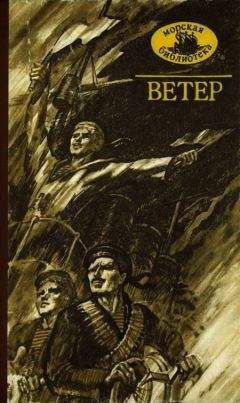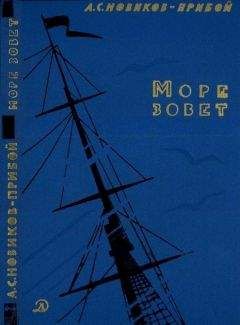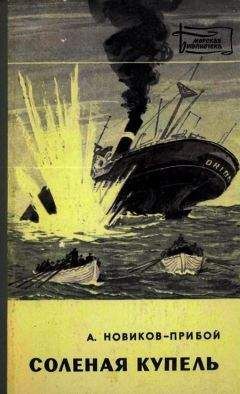Пава — не пава, жар-птица, а в общем — баба красоты писаной.
Бровь соболиная, по лицу румянец вишневыми пятнами, губы помидорами алеют, тугие и сочные.
А на бабе серый кожушок новехонький, штаны галифе нежно-розового цвета с серебряным галуном гусарским, сапоги лакированные со шпорами, сбоку шашка висит, вся в серебре, на другой стороне парабеллум в чехле, на голове папаха черная с красным бантом.
Стоит в дверях, глазами поблескивает и усмехается.
Даже глаза протер Гулявин. Нет — стоит и смеется.
— Ты кто такая будешь? — спросил наконец.
А она головой встряхнула и коротко:
— Я?.. Лелька!
Супится Гулявин.
— Ты не мотай! Толком спрашиваю. Откедова, кто такая?
— Из мамы-Адессы — папина дочка.
А сама все хохочет.
— Сам знаю, что папина дочка. Чем занимаешься, зачем пожаловала?
— А в Адессе с мальчиками гуляла, а теперь яблочком катаюсь.
Озлился Гулявин.
— Толком говори, чертова кукла! Нечего лясы точить!
— А толком сказать — атаманша. Гуляю, красного петуха пускаю, а со мной босота гуляет. Отряд атаманши Лельки.
— Народу у тебя много?
— На мой век хватит! Тридцать голов есть! Было больше, да под Очаковом третьего дня пощипали. Теперь на Крым нам дорога лежит. А ты из каких генералов будешь?
Смеется Гулявин.
— А я — фельдмаршал советский! В Крым тоже катимся. Что ж, приставай, по пути. Произведем в адъютанты. Что, Мишка, хорош адъютант будет?
Посмотрел Василий на Строева, а Строев молча сидит, на атаманшу в упор смотрит, и глаза, как иголки, стали злые и пронзительные. Лицо каменное.
— Как думаешь? Возьмем атаманшу?
Строев плечом повел только.
— Ну, атаманша, оставайся! Где люди-то у тебя?
— Люди по хатам разместились, а я пока без места.
— Ну и оставайся здесь! В тесноте, да не в обиде!
Села атаманша на лавку, кожушок сбросила, в одной гимнастерке сидит, румянец пышет, грудь круглая гимнастерку рвет.
Строев поднялся — и из хаты на двор. Василий за ним вышел.
— Ты, Михаил, чего надулся? Атаманша не по сердцу?
— Нет, ничего! — А голос холодный и ломкий.
— Нет, ты скажи по правде. Вижу, что злишься.
— А по правде, так я против этой атаманши. Не осторожен ты, Василий. Пришла баба, черт ее знает какая, откуда; черт знает, что за отряд. Зачем ее к нам втаскивать? Пусть идет своей дорогой. На свою ответственность брать незачем!
— Ну, пошел страхи пускать! Баба как баба! Раз с буржуями дерется, значит, нам помощница.
— Да мне все равно. После не пеняй только!
— Ничего. Пенять не придется.
Вернулись в избу. Строев сразу же на лавке за столом спать завалился. Василий на печку полез.
Атаманша со двора вьюк притащила, по полу разостлала, одеяло вынула шелковое, цветное, все в кружевах.
— Одеяло-то у тебя царское. Приданое сварганила?
— Сшила матушка-ночь да батюшка-ножичек!
Села атаманша на пол, косу заплела, гимнастерку стащила. Руки нежные, розовые, круглые. Груди птицей под рубахой трепещутся.
— Ты лампочку-то гаси! Ловчей раздеваться! Все баба!
— Зачем? Была баба и вышла. Лягу — погашу.
Завернулась в одеяло и дунула на лампочку.
Темнота в хате, только ветер погуливает вокруг и шуршит камышинами на крыше.
Не спится Гулявину. Ворочается на печке. Томительно что-то. И мельтешат в глазах атаманшино плечо голое и жаркая грудь. В сердце даже захолонуло. Давно Гулявин без бабы, а плоть бабы требует. На то и живет человек. Эх, промять бы атаманшины бедра железом пальцев, въесться губами в помидорные губы.
Горячо телу стало. Сплюнул со зла Гулявин.
— Тьфу… сатана!
Зашевелилось на полу, слышит Гулявин шепот бабий:
— Не спишь, генерал? Тошно?
И шепотом в ответ:
— А твоя какая забота?
— А коли не спишь, сыпь под одеяло. Согрею!
Как молния по избе шарахнула. И кошкой вниз бесшумно Василий. Схватил край одеяла, откинул. Пахнуло теплом — и навстречу хваткие руки и полные атаманшины губы.
А на лавке за столом, так же безшумно, на локте приподнялся Строев.
Поглядел в темноту, покачал головой и снова лег.
Наутро выступили по Херсонской старой дороге к Днепру, на Алешковскую переправу.
Перед выступлением осмотрел Гулявин Лелькин отряд.
Тридцать человек, все на конях, кони сытые, крепкие, видно, из немецких колоний. Сами не люди — черти. Немытые, грязные, а на пальцах кольца с бриллиантами в орех, у всех часы золотые с цепочками, бекеши, френчи — с иголочки.
Строев, пока смотрел отряд, все больше мрачнел, и открытое детское лицо осунулось, губы смялись брезгливой складкой.
Но когда, повернувшись, сказал Гулявин: «Лихая братва! В огонь и воду!» — промолчал Строев, ничего не ответил.
В Херсоне простояли два дня, ждали, пока лед отвердеет. И как только пришли в Херсон, рассыпались атаманшины всадники по всему городу, а вернулись к вечеру с полными седельными мешками.
А на другой день то же.
А вечером пьяные горланили «Яблочко» и дуванили добычу. И еще больше колец на черных пальцах, и — чего не было еще в гулявинском полку — матросы тоже приняли участие в дележе.
Не все, человек десять, не более. Соблазнились.
Ночью вернулся из города Строев и застал в штабе Василия и атаманшу. Сидела атаманша, расстегнувшись, перед бутылкой водки, блестели ярко атаманшины глаза, и тянула она высоким фальцетом:
Спрашу я Машу:
— Что ты будешь пить? —
А она говорить:
— Голова болить…
Повернулась к вошедшему Строеву, протянула стакан и крикнула:
— Выпей, красная девица! Что сопли пускаешь?
Ничего не ответил Строев — и к Василию:
— Нужно с тобой по делу поговорить. Серьезное!
— Ну, говори!
— Выйдем в другую комнату.
Вышли. Заходил Строев взволнованно из угла в угол и потом прямо к Василию:
— Дело очень грязное! Я сейчас из Совета! Позорно и скверно! Нас обвиняют в грабежах. Говорят, что наши кавалеристы грабили по домам и даже у рабочих. В предместье какой-то подлец старуху застрелил из-за копеечных серег. Это взволновало рабочих. Говорят, что советские войска — бандиты. Я тебя предупреждал! Просил не брать этой… — не кончил и брезгливо поморщился.
— Амба! Ты не горячись!.. При чем тут она? Народ у нее распущенный — это верно. Так она же баба — подтянуть не умела. А я их сам с завтра шкертом за глотку возьму — шелковые станут.
— Да не в том в конце концов дело! Не место в наших рядах такой сволочи! Кто она — бульварная девка!