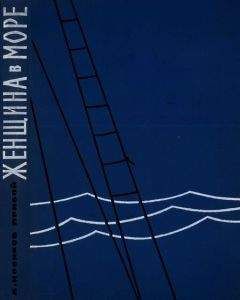За что? Какое преступление она сделала перед людьми?
Вечером, покончив с делами, Таня пришла к себе в каюту и бросилась на койку. И только здесь, в одиночестве, дала волю слезам. Неизбывной болью ныло оскорбленное сердце. Вспомнила о родном брате, плавающем моряком где-то на Дальнем Востоке. Неужели он такой же порочный, как и те, что живут с нею на одном пароходе? Тяжелое отчаяние давило ее. Она плакала беззвучно, — плакали мысли, запутавшиеся в безнадежности, как птицы в силках. Хотелось, чтобы кто-нибудь утешил словом, а каюта была пуста и тосклива, как гроб.
Явилась Василиса. Она пришла затем, чтобы еще раз почувствовать торжество свое над молодой соперницей, пережить сладость победы. Но когда увидела Таню, свернувшуюся на койке калачиком, словно от холода, увидела подушку, мокрую от слез, жалость зашевелилась в груди. Сколько раз самой ей, испытывая тяжкие удары неудач, приходилось изливать неутешную тоску в постели! Только подушка знала о горькой женской доле. Стало стыдно за свою роль. Дрогнуло сердце. Василиса заговорила ласково и откровенно, точно обращалась к родной дочери:
— Что уж ты убиваешься так, родная моя?
Задушевный голос тронул Таню. Она подняла заплаканные глаза на пожилую женщину и потянулась к ней, как обиженный ребенок к матери:
— За что они так на меня? Что я им плохого сделала?
Василиса обняла ее.
— Сошлась ты с Бородкиным. Вот и осерчали все.
Таня горячо запротестовала:
— Ничего подобного не было! Он только просил, чтобы я вышла за него замуж. А мне хотелось спасти его от гибели, и я обещала…
У Тани сердце было капризное, как порыв морского ветра. Она заявила, сверкнув глазами:
— Мне хочется сегодня же позвать Бородкина. Назло всем я действительно сойдусь с ним.
Василиса замахала руками:
— Что ты, что ты говоришь, дите неразумное! Хорошо сделала, что не согрешила. Нужно привыкнуть к человеку, познать его характер…
Она наставляла Таню с искренней убедительностью, любовно поглаживая голову. Той становилось легче, выпрямлялась сжавшаяся душа.
— Скажи, Василиса, откровенно: что такое мужчины?
— Жеребцы двуногие. Знаю я их. Сколько их перебывало у меня! Им от нас только и надо то, чтобы свою окаянную похоть заглушить.
— И больше ничего?
— А что же еще? Ты думала, что они и вправду все готовы были молиться на тебя? До чего ты еще неразумная, зорюшка моя ясная! Просто они, если сказать по-ученому, кобелировали вокруг тебя…
У Василисы вдруг задергались губы, и она продолжала:
— Ох, до чего я ненавижу их! Прости ты, господи, душу мою грешную. Не дал он мне, наш создатель, терпения. У самой часто бунтует тело. А кабы не это, я бы их, этих проклятых мужчин, ползать заставила около себя!
Таня смотрела на пожилую женщину широко открытыми глазами.
— И все такие?
— Почти все одинаковые: темные и образованные, бедные и богатые. Жила я в молодости у барина одного. Он так увивался вокруг меня, что руки целовал. А уж, бывало, любезности начнет говорить! И откуда только у него слова такие брались? А потом, гад щелкоперый, заразил меня и бросил. Через это вот, как сказывают доктора, я и родить не могу. И пошла я с той поры по худой дороженьке. Бросалась на мужчин: все хотелось ребеночка иметь. И все напрасно. Оставаться, видно, мне бесплодной до окончания века. И некому будет глаз прикрыть, коли подохну. И не только человек, а ни одна собака не повоет на моей могиле…
Голос Василисы задрожал, лицо болезненно сморщилось, орошаемое крупными слезами. Теперь уже Таня, всегда отзывчивая на чужое горе, утешала ее.
Две женщины, увядающая и молодая, долго еще сидели на койке, изливая друг другу тоску наболевшего сердца.
Когда остановились в германском порту, на «Октябрь» явился кочегар Перекатов. Еще издали, подплывая на шлюпке, он помахал товарищам рукой и весело крикнул:
— Алло, октябристы.
Ему никто ничего не ответил. Держа в руке желтый чемоданчик, он поднялся на палубу с такой поспешностью, точно здесь находилась его родная семья. На нем был новенький темно-синий костюм, коричневый вязаный галстук. Он лихо сдвинул серую кепку на затылок — пусть теперь посмотрят на его лоб! Вместо прежней шишки, остался над бровью лишь маленький шрам. Кочегар задорно улыбнулся, уверенный в своей неотразимости. Хотелось скорее увидеть ту, из-за которой пришлось столько мучиться, а его окружили матросы, грязные и неряшливо одетые. Пожимая им руки, он нетерпеливо бросал взгляд к корме. Тани не было видно.
Один матрос заметил Перекатову:
— Зря, браток, мечешь глазами туда. Опоздал.
— Что значит — опоздал? — упавшим голосом спросил кочегар.
Ему показали на Бородкина, стоявшего на баке.
— Видишь — рожа масленым блином сияет? Накрыл твою симпатию.
Сразу стало понятным, почему Бородкин, в противоположность другим, был хорошо наряжен. Кочегар, избавившись от противного нароста, сжился с мыслью, что Таня будет его. Разве теперь мог кто-нибудь соперничать с ним? И вдруг на его голову свалилась такая весть, от которой зашевелились волосы. Взвихрилась душа. Легче было бы, если бы на его вахте взорвались все котлы.
Перекатов торопливо пошагал в свой кубрик, шевеля одними губами, точно внезапно лишился голоса.
«Октябрь» снялся с якоря и снова двинулся в путь.
Целые сутки лил дождь, а потом наступили солнечные дни и звездные ночи. Через каждые полчаса гудел судовой колокол, отбивая склянки. Одна вахта сменяла другую. Жизнь протекала по заведенному шаблону, однообразно. Только в помутившейся душе экипажа не было покоя. Вместо прежних шуток, перебиваемых веселым смехом, слышались озлобленные выкрики.
Василиса взяла буфетчицу под свою защиту. Она одна, никого не боясь, пошла почти против всего экипажа. Никто не мог переспорить ее. В этом отношении у нее был неистощимый запас энергии. Она перебирала людей в одиночку, подвергая недостатки каждого едким насмешкам, и ругала всех сразу.
— Не спросила девка вашего совета — окрысились! Да хоть бы с чертом она связалась! Вы-то здесь при чем? А еще в благородство играли, трепачи окаянные! На словах — мед сладкий, а на деле — полынь горькая…
Василиса ругалась по целым дням, ругалась с яростью, до хрипоты в голосе.
Третий штурман, как-то проходя мимо, сказал о ней:
— Не баба, а железа с внутренней секрецией.
Так она отбивалась от мужчин, а Таню ласково уговаривала:
— Ты не думай, девонька, с судна уходить. Где ты еще такую должность найдешь? А что ругаются — не велика беда. Ругань не смола — к телу не пристанет. Да и скоро выдохнутся они, водяные черти…
И действительно, по мере того, как пароход приближался к своему порту, другие интересы захватывали мужчин. У каждого там были близкие люди, и каждому хотелось скорее попасть на берег. Бури, разыгравшиеся вокруг буфетчицы, постепенно утихали.
Библиотеку забросили совсем. Только один Бородкин продолжал почитывать книги. Одевался он чисто и аккуратно. Это выгодно отличало его от других. В глазах Тани он стал вырастать в героя.
XII
Когда стали на якорь в своем порту, на «Октябрь» явилось начальство. После некоторых формальностей таможенники приступили к осмотру судна.
Люди теперь жили берегом, домом, семьей.
К Тане начали относиться лучше, как будто между нею и остальным экипажем ничего не произошло. При встрече с нею раскланивались и участливо спрашивали:
— Ну как, удалось что-нибудь пронести?
— А у меня ничего запретного нет, — шутливо отвечала она. — Я купила только то, что на себя можно надеть.
Она не хотела оставаться на судне ни одного дня, но потом заколебалась. С одной стороны, ее уговаривала Василиса не бросать должности, а с другой — ей больше стал нравиться Максим Бородкин. Он оказался великолепным парнем. А главное — моряки опять превратились в добродушных, веселых людей. Она забыла прежнюю обиду. Опять загорелась бодростью, зазвенела переливчатым смехом.
Правление Госпароходства решило перебросить «Октябрь» на несколько рейсов в один из северных портов, чтобы усилить оттуда перевозку леса за границу. Это событие взволновало весь экипаж. Предстояло расстаться со своими близкими надолго, пока арктические воды не покроются льдами. Чтобы не идти порожняком, пароход срочно нагружался рельсами, газетной бумагой, бочками с сахаром. Все это предназначалось для своего же далекого края.
Прежний радист заболел аппендицитом и вынужден был отправиться в больницу на операцию. Вместо него назначили другого, Григория Павловича Островзорова. Это был человек лет двадцати восьми, немного выше среднего роста, крепкий и статный. Он явился на пароход в обед, в перерыв работы. Его сопровождал пес из породы лаек — белый, пушистый, с лохматыми, словно в галифе, икрами. Закинув на спину хвост, свернутый в кольцо, как крендель, он смело шел за своим хозяином, настораживая чуткие треугольные уши. Новый радист, держа в руках два чемоданчика, направился в кают-компанию. На палубе около четвертого люка с ним встретилась Таня. Она взглянула в лицо нового человека, выбритое, со здоровым загаром, с коротко подстриженными усами. Из-под светлого козырька морской фуражки на нее тоже смотрели большие серые глаза, немного изумленные, что-то разглядывающие. Таня почувствовала внутреннее смущение. А когда пес подбежал к ней, чтобы по своей собачьей привычке обнюхать ее черным, словно лакированным носом, она, попятившись к борту, испуганно вскрикнула: