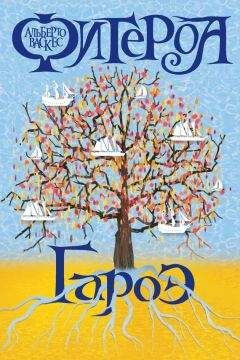Она сняла с себя всю одежду и скользнула в воду, не держась за борт, потому что, хоть она и не была опытной пловчихой и только и умела, что держаться на воде, ей хватило бы пары взмахов руками, чтобы вновь вернуться к вельботу, — так плавно продолжал он двигаться.
Ее не пугала бескрайность спокойного моря, окружавшего ее, невообразимая глубина у нее под ногами и даже возможное присутствие акул. Для нее имело значение только ощущение ласкового объятия воды, позволяющее забыть хотя бы на несколько минут ужасающее однообразие многодневного сидения на носу лодки; ей казалось, что та не продвинулась ни на метр в этом бессмысленном путешествии в никуда.
Она подумала: а что, если ей уплыть — позволить спокойному течению очень медленно отнести ее от лодки, пока широкое море, ленивое море, тихое море не поглотит ее в последнем объятии, навсегда превратив ее в часть себя самого?
Это был бы красивый финал после стольких лет беспокойной и бурной жизни. Малышка Кармен, появившаяся на свет на высоте три тысячи метров, у подножия вулкана Пичинча, в городе Кито, окончательно исчезнет, проглоченная донным илом самого большого и глубокого из океанов.
Или, быть может, она всплывет? Да, наверно, раздуется и всплывет, и незаметное течение — эта неодолимая сила, с которой они безуспешно борются вот уже двенадцать дней, — прибьет ее тело к берегам тех экзотических островов, которые, она читала, находятся на другом конце света.
Мысль о том, чтобы поддаться колдовству спокойной смерти, которая положила бы конец стольким страданиям, вызвала приятные ощущения. Ведь так она навсегда освободится от присутствия рядом отвратительной звериной физиономии, обретет покой. Она испытала почти чувственное наслаждение, представив себе гнев и унижение Оберлуса, когда он поймет, что она, как и все, предпочла умереть, только бы его больше не видеть.
— Прощай, чудовище, прощай! Скелет с косой и то красивее, и я предпочитаю навеки остаться в его компании, нежели вытерпеть с тобою рядом еще один день. Прощай, Игуана! Прощай, проклятая образина!.. Прощай, обожаемый мучитель, сумевший когда-то разбудить во мне вулкан, который уже никто никогда не сможет загасить…
Она чувствовала себя такой растерянной! Настолько отупевшей от солнца, жажды, от того, что целыми днями видела только горизонт и слышала в тысячный раз повторяемый всплеск весел, взмах за взмахом.
До каких пор? Почему хотя бы не задует ветер? Почему море не вздымается, волнуясь, как все остальные моря на свете? Как их угораздило оказаться прямо в центре Великих Штилей?
Даже Средиземное море, крохотная лужа, пародия на океан, где она побывала в компании Хермана де Арриага, имело больше силы и больше характера, чем этот глупый Тихий океан, всегда скучный, всегда плоский, словно толстый и невидимый слой масла полностью усмирил его ярость, словно он был всего лишь гигантским зеркалом, созданным, чтобы отражать солнечные лучи. Почему это море лишено характера? Море без какого-либо другого признака жизни, кроме молчаливого и коварного течения, которое, словно рука циклопа, мешала им приблизиться к суше.
Да, было бы замечательно позволить ему убаюкать тебя, поддавшись колдовству, разрешить ему проникнуть через каждую пору, чтобы в итоге тоже превратиться в океан, в Тихий океан, в необъятную ширь, не признающую пределов, не позволяющую привязывать тебя каждую ночь к спинке кровати.
Португалец Пинту Соуза в третий раз попросил воды, и Оберлус в третий раз ему отказал.
— Надо экономно расходовать воду, — сказал он. — Она кончается.
Час спустя португалец Пинту Соуза, тщедушный человечек, чудом продержавшийся столько дней, рухнул на свое весло, и все усилия Малышки Кармен привести его в чувство оказались напрасны.
— Дай ему воды, — упрашивала она. — Дай ему воды, иначе он умрет.
Оберлус склонился над потерявшим сознание человеком, внимательно оглядел его заострившееся лицо, исхудавшие руки, окровавленные ладони и обессилевшее тело, покрытое гноящимися язвами, и отрицательно покачал головой.
— Не имеет смысла тратить на него воду, — был его приговор. — Он не жилец.
— И ты позволишь ему умереть вот так?
— Нет. Я брошу его в море.
Кармен де Ибарра растерянно на него посмотрела. Хотя она уже почти год провела рядом с Оберлусом и была свидетельницей и жертвой многих его жестокостей и абсолютного равнодушия, ей все еще казались непостижимыми некоторые выходки существа, которое и правда, казалось, не имело ничего общего с остальными людьми.
— Но ведь он еще жив! — вскричала она.
— Он дышит, и это все. Но он спекся, это точно. Чем раньше он умрет, тем лучше будет для него и для всех.
Оберлус пробрался к рулю, распутал конец цепи, которой были связаны пленники, освободил Пинту Соуза и, на глазах обессилевшей женщины и под безразличными взглядами остальных, ухватил его за плечи и бросил в воду.
Очень медленно — наверное, в этом ленивом океане все происходило медленно — португалец начал тонуть в прозрачных водах и в конце концов исчез, словно проглоченный голубой ширью, которая скорее навевала мысль о безмятежном сне, чем о реальности смерти.
Игуана Оберлус проводил взглядом тело, пока оно не исчезло, а потом сел на место Соузы, взявшись за весло, оставшееся свободным.
— Берись за руль, — приказал он Малышке Кармен. — И помни: на восток! Все время на восток! Отклонишься хотя бы на один градус — оставлю без воды. Нам надо выйти из этой мертвой зоны, где нет ветра и не клюет рыба. — Он начал грести. — Если мы и дальше будем держаться этого направления, через пару дней одолеем уже половину пути.
— Половину пути! — с хрипом выдохнула она. — Боже Всемилостивый!
Дурачок Кнут, обессилев, потерял последние остатки разума, которые у него еще оставались. Это случилось в середине четвертой недели плавания, когда запасы еды подошли к концу и стало очевидно, что в этом глубочайшем и спокойном море рыба не поднимается к поверхности, как они ни старались ее приманить всевозможной наживкой.
Однажды утром норвежец вдруг запел, хотя губы у него потрескались от жажды, — и песня, вероятно, казалась ему невероятно смешной, потому что время от времени он начинал громко смеяться, размахивая руками и гримасничая.
В довершение он швырнул в воду весло; Оберлус в ярости поколотил норвежца, выловил весло и сунул ему в руки, но тот снова его отбросил.
Оберлус отложил весло в сторону и дал Кнуту глоток воды в надежде, что он образумится и будет слушать, что ему говорят, однако он по-прежнему распевал свою непонятную песню, не умолкая ни на минуту, весь день и последующую ночь. В конце концов на рассвете Игуана Оберлус вынул один из своих пистолетов из мешка, в котором их хранил, дабы уберечь от влаги, и прицелился ему в голову, со строгим видом поднеся палец к губам, явно требуя тишины.