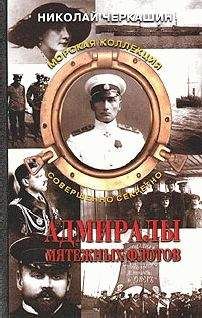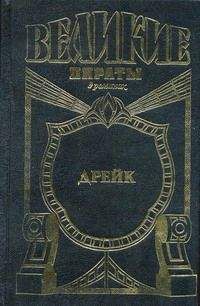Дальнейшее продвижение на юг было связано с тщетными поисками хорошей, удобной гавани. Наконец, мы нашли такую под 47° южной широты. Туземцев мы видели здесь долгое время только издали, так как они, очевидно, боялись и не подходили. Потом мы узнали, что они через жреца спрашивали своего бога Сеттебоса4, как им быть: довериться белым или нет. Они привыкали к нам постепенно. Сначала, когда мы предлагали им какие-нибудь вещи вроде ножичков, колокольчиков, бус, они, не подпуская нас близко, кричали «toyt», чтобы мы бросили эти вещи на землю. И только когда матросы отходили, они брали вещи и рассматривали с любопытством. Некоторые были смелее своих товарищей. Так, один туземец, стоя около генерала, по-видимому, был так прельщен красным цветом его шляпы, что снял ее и надел на свою голову, а затем, вероятно убоявшись его гнева, взял лук и пустил стрелу в свою ногу, глубоко ранив себя в икру. Кровь полилась. Он собрал горсть этой крови и предложил ее генералу (по-видимому, в знак своей любви к нему и в виде просьбы не сердиться за взятую шляпу).
Другой туземец смотрел как-то, как матросы пили свою утреннюю чарку вина, и сам потянулся за вином. Ему дали чарку, и чуть он отхлебнул, как его уже разобрало. Ноги подкосились, и он присел на корточки, потом стал опять нюхать и пробовать вино на вкус и пробовал, пока не вытянул его до дна. С этого дня он так пристрастился к вину, что выучил слово «wine» и каждое утро являлся за своей чаркой.
В одежде они не имеют особой потребности. И вот почему: как только родится у них ребенок, мать намазывает его тельце особым составом из страусового сала, подогретого на огне и смешанного с мелом, серой и еще чем-то, и, втирая его в кожу, закупоривает тем самым поры. Это повторяется каждый день и, не останавливая роста, делает ребенка нечувствительным к холоду. Мужчины протыкают отполированные деревянные или костяные палочки сквозь носовой хрящик и нижнюю губу. Волос на голове они никогда не стригут и перехватывают их шнурком из страусовых перьев, и сюда они закладывают всякую всячину: стрелы, ножи, зубочистки — все, кроме лука. Где найдут добычу, там тотчас разводят костер и поджаривают на огне, разрезав на куски, каждый фунтов по шесть; вынув мясо из огня, раздирают его зубами, словно львы. Они делают музыкальные инструменты из коры деревьев, сшивая куски ее и кладя внутрь маленькие камешки. Эти инструменты, похожие на наши детские погремушки, они подвешивают к поясу, когда хотят повеселиться. Пляску они любят до безумия. Шум этих погремушек действует на них так, что они становятся как сумасшедшие. Они могли бы, кажется, плясать до смерти, если бы кто-нибудь не снимал с них этих погремушек. Тогда они сразу останавливаются и долгое время стоят, как очумелые. Они восхищались нашей мелодичной музыкой, но звук трубы или барабана, а особенно выстрел из ружья нагонял на них ужас. Женщины в противоположность мужчинам носят короткие волосы, даже бреют их бритвой, сделанной из кремня.
Тело свое они раскрашивают: некоторые — в черную краску, оставляя нераскрашенной только шею; другие одно плечо красят черным, другое — белым. Так же и бока, и ноги красят непременно разными красками; на черных частях изображают белые луны, на белых частях — черные солнца. Это знаки их божеств. По-видимому, и эти краски тоже предохраняют их тело от холода.
Теперь надо рассказать одно приключение, которое несколько омрачило наше представление о добродушии великанов. 20 июня в бухте Юлиана5 наш генерал с несколькими джентльменами и матросами отправился в шлюпке на берег поискать пресной воды. Их встретили на берегу два туземца, нисколько не дичившиеся белых, смело принимавшие из их рук всякие подарки и с любопытством и с удовольствием смотревшие, как Оливер, канонир с адмиральского корабля искусно стрелял из своего лука. Вскоре подошли два других патагонца, старые и хмурые на вид. Они, видимо, были недовольны и сердиты на молодых за их общение с чужеземцами, но, к сожалению, ни генерал, ни его спутники не обратили на это внимания. Один из джентльменов, мистер Винтер, подражая Оливеру, начал натягивать свой лук, как вдруг тетива на нем оборвалась. В этот момент все общество, не подозревая ничего дурного, мирно направлялось к шлюпке, повернувшись к туземцам спиной. Тихо подкравшись сзади, последние стали стрелять в удалявшихся и главным образом в Винтера, который был ранен в плечо, обернулся назад и был вторично ранен в легкое.
Тогда наш канонир прицелился из мушкета, но мушкет дал осечку — и Оливер был убит на месте. Генерал, сохранивший свое хладнокровие, отдал приказ чаще и быстрее переменять места, наступая на врага и защищаясь щитом, кто его имел, а сам, взяв из рук канонира мушкет, уложил на месте зачинщика ссоры. Кишки вывалились у него из живота, и он заревел так страшно, как могут реветь разве десять быков, взятые вместе. Пыл нападавших сразу остыл, и, несмотря на то что со всех сторон из лесов показались их соплеменники, они предпочли бежать. Озабоченный раной бедного Винтера генерал поспешил вместо преследования перевезти раненого на корабль, но тот не прожил и двух дней. На следующее утро наши люди вернулись на берег за телом убитого канонира. Оно лежало на том же месте, где было оставлено, но в правом глазу торчала стрела и с одной ноги были сняты чулок и башмак; шляпа также была унесена.
Магеллан был не совсем неправ, называя туземцев именем великанов, потому что они действительно отличаются от обычного мужчины ростом, плотностью сложения, силой и зычностью голоса. И тем не менее они вовсе не те чудовища, как о них рассказывали. Есть англичане, которые не уступят ростом самому высокому из них. Может быть, испанцам не приходило в голову, что в эти места могут явиться англичане и опровергнуть их ложь.
Но несомненно одно, что испанская жестокость по отношению к туземцам ожесточила и их, и в нашем лице они мстили за гибель своих сородичей. Память о Магеллане не исчезла среди них, хотя прошло с того времени больше полустолетия. Действительно, во время только что описанного столкновения один из индейцев, настроенный враждебно, отойдя на некоторое расстояние и считая себя там в полной безопасности, крикнул нашим офицерам, которых принял за Магеллана и его спутников: «Магеллан, это моя земля!». Во всяком случае это было наше единственное столкновение с ними. Еще два месяца после того пробыли мы в их краю в полном мире с ними.
Не успела эта кровавая трагедия закончиться, как разыгралась другая, давно подготовлявшаяся и гораздо более тяжелая для нас всех, потому что нас одних она касалась. Среди офицеров, совершавших плавание в нашей эскадре, большим доверием и расположением генерала пользовался некий Томас Даути, как человек способный, вдумчивый и хорошо образованный, знавший, например, и греческий, и древнееврейский языки. Генерал давал ему полную свободу, посвящал во все планы, выделял на первое место во всех собраниях, назначал своим заместителем на время своего отсутствия. Правда, еще в Плимуте перед отплытием его предупреждали насчет честолюбивых замыслов Даути, что будто он считает себя наравне с генералом и главным вдохновителем самой идеи предстоявшего путешествия и что от такого человека можно ожидать очень больших неприятностей. Но генерал тогда не придал значения неопределенным слухам и намекам, считая их порождением зависти и интриги. Он даже удвоил свое доверие и расположение к Даути и сердился, когда и потом, во время путешествия, те или иные из подчиненных пытались, во исполнение долга, открыть глаза командиру на подготовлявшийся среди экипажа мятеж.