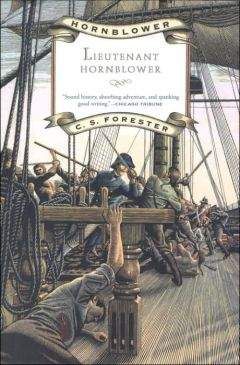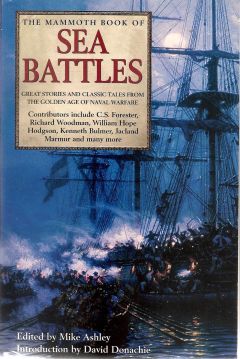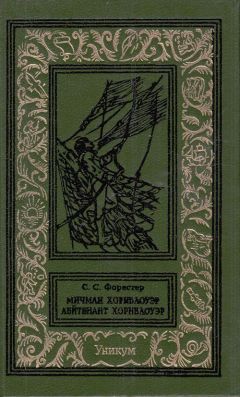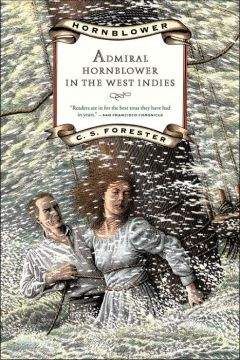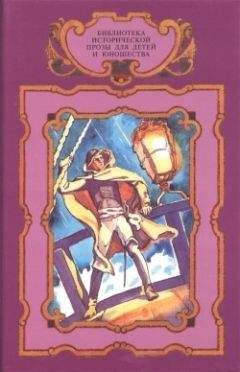— Но почему же нет? — Буш искренне недоумевал.
— Нет, — сказал Хорнблауэр. — Это… это… Лучше б она этого не делала. Бедная девушка.
— «Бедная девушка», черт возьми! — воскликнул Буш. — Она просто хотела сделать вам приятное.
Хорнблауэр некоторое время глядел на него, ничего не говоря, потом безнадежно махнул рукой, словно поняв, что никогда не заставит Буша взглянуть на дело со своей точки зрения.
— Думать вы можете, что хотите, — упрямо сказал Буш, не собираясь сдаваться, — но незачем вести себя так, словно только что высадились французы, из-за того, что девушка сунула вам в карман полкроны.
— Как же вы не понимаете… — начал Хорнблауэр и бросил всякие попытки объясниться. Под изумленным взглядом Буша он взял себя в руки. Страдание исчезло с его лица, сменившись прежним непроницаемым выражением, как если бы Хорнблауэр опустил на лицо забрало.
— Очень хорошо, — сказал он. — Мы используем эти полкроны в полной мере, клянусь Богом!
Он постучал по столу.
— Эй!
— Да, сэр.
— Пинту вина. Пусть кто-нибудь сбегает и купит ее немедленно. Пинту вина — портвейна.
— Да, сэр.
— Какой сегодня пудинг?
— На нутряном жире с коринкой.
— Хорошо. Давайте пудинг. Обоим. И полейте его вареньем.
Чего Буш не ожидал, так это, что Хорнблауэр отодвинет тарелку с большим недоеденным ломтем пудинга. И он лишь разок куснул сыр, даже не распробовав его вкус. Хорнблауэр поднял стакан, Буш последовал его примеру.
— За прелестную леди, — сказал Хорнблауэр. Они выпили, и Хорнблауэр беспечно подмигнул Бушу. Это Буша обеспокоило, и он сказал себе, что устал от Хорнблауэровых вспышек. Он решил сменить тему, гордясь, как тактично ему это удалось.
— За успешный вечер, — сказал он, в свою очередь поднимая стакан.
— Своевременный тост, — заметил Хорнблауэр.
— Вы можете еще играть? — спросил Буш.
— Естественно.
— И выдержите еще ряд проигрышей?
— Еще роббер я проиграть могу, — ответил Хорнблауэр.
— Ох.
— С другой стороны, если я выиграю первый, я смогу позволить себе два проигрыша. А если я выиграю первый и второй, я спокойно могу проиграть следующие три.
— Ох.
Это звучало не слишком обнадеживающе, а сверкающие глаза на каменном лице и вовсе выводили Буша из равновесия. Он заерзал и решил снова переменить разговор.
— «Гастингс» снова берут на действительную службу, — сказал он. — Вы слышали?
— Да. Три лейтенанта, все трое выбраны два месяца тому назад.
— Боюсь, что так.
— Но придет и наше время, — сказал Хорнблауэр. — Выпьем за это.
— Как вы думаете, приведет Парри Ламберта в «Длинные Комнаты»? — спросил Буш, отрывая от губ стакан.
— Не сомневаюсь, — ответил Хорнблауэр. Он снова забеспокоился.
— Мне скоро надо будет возвращаться, — сказал он. — Парри может поторопить Ламберта.
— Наверно, — согласился Буш, собираясь вставать.
— Если вы хотите, можете со мной не ходить, — заметил Хорнблауэр. — Вам, наверно, скучно сидеть там без дела.
— Ни за что на свете не откажусь, — сказал Буш.
В «Длинных Комнатах» было людно. Почти за каждым столом во внешней комнате сосредоточено играли в серьезные игры, а из-за занавеса, отделявшего внутреннюю комнату, доносился беспрестанный гул — там играли шумно и азартно. Но для Буша, в тревоге стоявшего у огня, обмениваясь время от времени рассеянными репликами с подходившими и отходившими людьми, существовал лишь один стол, тот, за которым сидел Хорнблауэр в чрезвычайно изысканном обществе. Он играл с двумя адмиралами и полковником от инфантерии. Последний был толстый мужчина с лицом почти таким же красным, как его мундир. Его Парри привел вместе с Ламбертом. Флаг-адъютант, прежде игравший с Парри, был отодвинут теперь на роль наблюдателя и стоял рядом с Бушем, время от времени отпуская невразумительные замечания по ходу игры. Маркиз несколько раз заглядывал в комнату. Буш заметил, что он с одобрением останавливается взглядом на том же самом столе. Неважно, хотят ли играть другие, неважно, что правила комнаты позволяли любому из посетителей подсесть к столу по завершении роббера: компания, включавшая двух адмиралов и одного полковника, могла делать, что ей заблагорассудится.
К невероятному облегчению Буша Хорнблауэр выиграл первый роббер, хотя Буш, не понимая игры, не знал, кто выиграл, пока не смешали карты и не начали расплачиваться. Он увидел, как Хорнблауэр убирает деньги в нагрудный карман.
— Как было бы приятно, — сказал адмирал Парри, — если бы мы вернулись к прежним деньгам, правда? Если бы страна отказалась от этих грязных бумажек и восстановили старые добрые золотые гинеи?
— Да уж, — сказал полковник.
— Портовые акулы, — заметил Ламберт, — поджидают каждое судно, идущее из-за границы. Двадцать три шиллинга и шесть пенсов дают они за гинею, и можете быть уверены, она стоит больше.
Парри что-то вынул из кармана и положил на стол.
— Видите, Бони восстановил французские деньги, — сказал он. — Теперь это называется наполеонодор, поскольку он пожизненный почетный консул. Монета в двадцать франков — раньше мы звали ее луидор.
— «Наполеон, первый консул», — прочел полковник, с любопытством разглядывая монету, прежде чем положить ее на стол. — «Французская республика».
— Сплошное лицемерие, — заметил Парри. — Со времен Нерона не было худшей тирании.
— Мы ему покажем, — сказал Ламберт.
— Аминь, — заключил Парри и спрятал монету в карман. — Но мы отвлеклись от дела. Боюсь, это моя вина. Давайте снимем. А, на этот раз, полковник, вы мой партнер. Изволите сесть напротив меня? Забыл поблагодарить вас, мистер Хорнблауэр, вы — великолепный партнер.
— Вы слишком добры, милорд, — сказал Хорнблауэр, садясь на стул справа от адмирала.
Следующий роббер прошел в молчании.
— Я рад, что карты в конце концов смилостивились над вами, мистер Хорнблауэр, — сказал Парри. — Хотя наши онеры и уменьшили ваш выигрыш. Пятнадцать шиллингов, насколько я понимаю?
— Спасибо, — сказал Хорнблауэр, забирая деньги. Буш вспомнил, как Хорнблауэр говорил, что сможет проиграть три роббера, если выиграет два.
— По мне ставки чертовски малы, — сказал полковник. — Может увеличим?
— Это решать обществу, — ответил Парри. — Я сам ничего не имею против. Полкроны вместо шиллинга? Давайте спросим мистера Хорнблауэра.
Буш с новой тревогой взглянул на друга.
— Как вам будет угодно, милорд, — сказал Хорнблауэр с напускным безразличием.