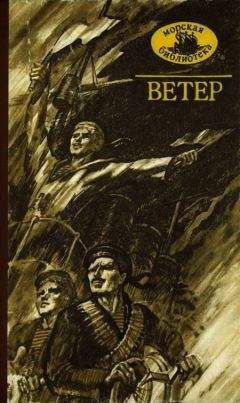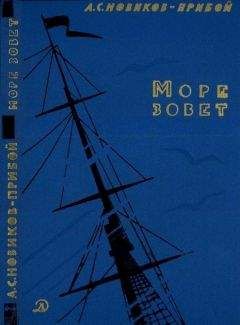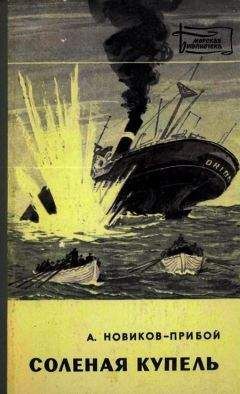Бахметьев и Лобачевский, попрощавшись, вышли в коридор, и первый, кого Бахметьев увидел, был старшина-рулевой Слепень. Винтовка его куда-то исчезла, и он стоял, прислонившись к стенке. Очевидно, ждал, чем окончится совещание у командующего.
Семен Плетнев говорил, что нужно было приказывать как прежде. Ладно — и Бахметьев поднял голову:
— Товарищ Слепень!
— Есть!
— Сейчас же передайте: «Командарму» и «Уборевичу» изготовиться к походу.
— Есть изготовиться! — Голос Слепня был такой же, как всегда, и держался он по-прежнему подтянуто. — Разрешите спросить?
— Да?
— Как же с командиром быть на «Уборевиче»?
В самом деле, не мог же «Уборевич» идти без командира! Может, взять с какой-нибудь другой лодки? А если завяжется бой и ей тоже придется выходить? А потом, «Беднотой» командовал какой-то капитан из речного транспорта, а «Карлом Марксом» бывший артиллерист «Командарма», — самый обыкновенный комендор Шишкин. Слепень был ничем не хуже их. Пожалуй, даже лучше.
— Вы пойдете командиром. Я через десять минут буду у себя на корабле и дам вам все указания.
— Как же это я… — начал было Слепень, но передумал и выпрямился. — Есть, товарищ начальник.
Го видимому, Плетнев был прав, и Бахметьев невольно улыбнулся.
— Ступайте. У меня тут есть кое-какие дела, — и взялся за ручку одной из дверей.
Осторожно ее приоткрыл и в тусклом свете завешенной полотенцем электрической лампочки увидел того, кого рассчитывал увидеть, — комиссара Ярошенку.
Ярошенко стал еще более худым и костлявым, и на белой подушке лицо его казалось совершенно черным. Напряженным взглядом он смотрел на свою огромную забинтованную руку, но при виде Бахметьева на мгновение закрыл глаза и, когда снова их открыл, выглядел совершенно нормально.
— Заходите, — сказал он с живостью. — Рад вас видеть.
Бахметьев сел на стул у койки:
— Как дела? Скоро собираетесь поправляться?
— Насчет поправки пока что слабовато. Завтра утром ждут доктора. То есть не завтра, а, конечно, сегодня, — когда не спишь всю ночь, очень трудно разобраться. — Ярошенко остановился, видимо стараясь вспомнить, о чем он говорил. Наконец вспомнил: — Ну, он отрежет, а там посмотрим. — Заметил, что Бахметьев побледнел, и быстро добавил: — Пустяки. Только до локтя, а она всё равно с разбитыми пальцами.
Бахметьев ощутил внезапный приступ тошноты. Здесь, в полутемной каюте, ему стало так страшно, как не было еще ни разу в жизни. Только видеть это Ярошенке отнюдь не следовало, а потому он взял себя в руки.
— Пустяки? — и для большей убедительности сделал удивленное лицо. — Это вы пустяки рассказываете, дорогой товарищ комиссар. Людям ни с того ни с сего руки не режут.
— Ни с того ни с сего не режут, — согласился Ярошенко. — Однако, если нужно, не стесняются, и правильно делают. Это называется ампутация. Имейте в виду — я когда-то был студентом-медиком. Правда, с третьего курса меня забрала полиция, так что лекарь я никакой. Но сейчас у меня тридцать девять и семь, и всю руку раздуло. Не надо быть профессором, чтобы поставить диагноз.
— Диагноз! — всё еще не сдавался Бахметьев. — Наш флагманский врач, к счастью, лучший лекарь, чем вы. Бросьте ваши медицинские рассуждения. Через неделю вы совершенно поправитесь и запросто будете писать… — решил придумать что-нибудь посмешнее и придумал: — Стихи.
Ярошенко улыбнулся одними глазами.
— Стихи я очень люблю. Особенно Некрасова — от него всегда волнуешься. А писать можно выучиться левой рукой. Говорят, это совсем нетрудно… Впрочем, оставим этот разговор. Как вам понравился наш общий друг Малиничев?
— Вы уже слыхали?
— Похоже, что мы с вами не ошиблись. А ну его в болото! — Ярошенко отер лоб здоровой рукой и осторожно опустил ее на одеяло. — Что же теперь делается?
Бахметьев встал:
— Теперь мы идем ставить мины. Лобачевский на заградителе «Молога», и я с двумя канонерскими лодками в качестве прикрытия. Когда вернемся, опять к вам зайду.
— Ну, действуйте, — сказал Ярошенко. — Мы с вами непременно победим.
Бахметьев вышел из каюты и надел фуражку. Спокойно и не спеша направился к выходу на верхнюю палубу. За эту ночь он стал на несколько лет старше.
14
Это даже нельзя было назвать усталостью. Это была ноющая, похожая на зубную, боль во всем теле, страшная тяжесть в голове и временами такая слабость, что трудно было пошевелить рукой.
Слушая доклад своего флаг-секретаря, командующий флотилией Плетнев растирал себе виски, маленькими глотками пил холодный чай и всё-таки почти ничего не мог понять.
Порт не присылал какого-то обмундирования, и с дровами опять получались нелады. Какая глупость — на сотни верст вокруг сплошные леса, а дров почему-то не хватает. Буксир «Иванушка» в тумане вылез прямо на берег. На нем шел доктор или нет? Кажется, да. Дальше началось что-то совершенно неинтересное о табелях комплектации, и голос флаг-секретаря Мишеньки Козлова, закачавшись, куда-то уплыл.
Нет, засыпать на докладе никак не годилось, и усилием боли Плетнев заставил себя встать.
За окном сплошной пеленой висел косой дождь. Он был очень кстати, потому что скрывал от противника постановку минного заграждения.
— Что слышно о заградительном отряде?
— По донесениям береговых постов, он в восемь пятнадцать уже был на месте и приступил к делу. Канлодки держатся на позиции. Пока больше ничего не известно.
Большие круглые часы над койкой показывали девять пятьдесят. Лобачевский возился непозволительно долго. Уже давно можно было установить не то что двадцать четыре, целую сотню мин образца восьмого года.
— Я выйду на воздух, — сказал Плетнев. — Здесь дышать нечем.
Действительно, в каюте синими слоями плавал табачный дым, и в обеих пепельницах на столе громоздились просто невероятные кучи окурков. Неужели он столько выкурил за одну ночь?
— Есть, есть! — лихо ответил Мишенька Козлов и, щелкнув каблуками, не без удовольствия посмотрел на себя в зеркало. — С вашего разрешения я прикажу здесь прибраться и проветрить.
Тоже чудак. На флот попал прямо из реального училища, а держался каким-то гусаром. Противно было смотреть.
На палубе всё же полегчало. Дул порывистый ветер, дождь, шипя, хлестал по черной реке, и водяная пыль отлично освежала лицо. Под навесом спардека, у самой трубы вентилятора, стояло плетеное кресло, на котором можно было отдохнуть.
Но отдохнуть — значит ни о чем не думать или думать о чем-нибудь спокойном, а в голову всё время лезли все те же тревожные, неблагополучные мысли.