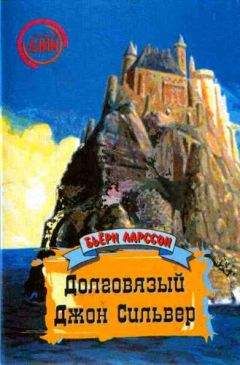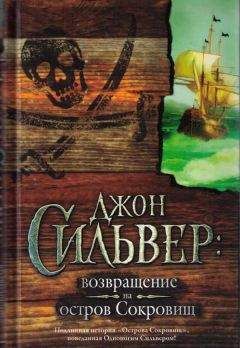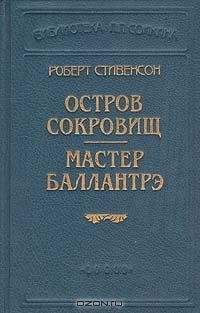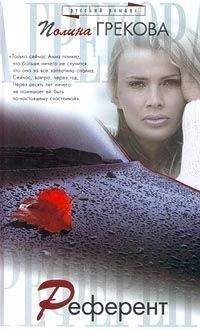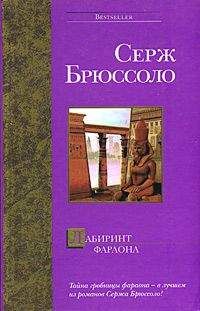Ясное дело, Мартин и его собратья колебались, а тут ещё Хольт пробормотал что-то не слишком лестное на мой счёт.
— Поторапливайтесь! — твёрдо потребовал я. — У вас нет целой ночи на раздумье, если хотите дожить до рассвета!
Уже потом мне пришло в голову, что это, наверно, был не лучший довод, чтобы убедить таких, как они, ведь им было обеспечено надёжное будущее на небесах. Тем не менее Мартин нацарапал на бумаге желанные слова.
— Помоги нам, Сильвер, и мы будем вечно тебе благодарны. Мы все будем за тебя молиться.
— Начинайте! — ответил я радостно, схватив бумагу. — Замолвите за меня словечко на небесах. Это никогда не повредит. А теперь я побежал. Вы, братья, в надёжных руках.
Я отошёл от окна, но я ещё не сделал всё, что хотел. Подождав минутку, я опять прокрался к окошку и увидел, что они все стоят на коленях и молятся о спасении своей жизни. Я прицелился, выстрелил Хольту в голову и ушёл прочь, слыша за собой крики ужаса и выстрелы, — это наугад стреляли чернокожие.
Наконец-то я могу быть доволен собой, подумал я, когда эти звуки стихли. Не потому, что я избавил мир от Хольта, я не настолько глуп, ибо всегда найдутся другие, желающие занять его место, точно так же, как всегда на смену мёртвому капитану чёртовой Божьей милостью, не успеешь глазом моргнуть, приходит другой. И не потому, что Хольт благодаря мне получил по заслугам за все свои удары кнутом. Кто знает, может быть, его уже взяли на небеса, и тогда чего стоит это моё наказание? И не потому, что священники из-за меня проведут бессонную ночь и, несмотря ни на что, не будут считать черномазых глупыми, как пробки. Нет, если я и был рад, то потому, что мне удалось их всех провести, и негров, и священников, и извлечь из этого пользу для себя: я опять свободен, впервые почти за год.
Завладев бумагой, которая давала мне право на передвижение, я, не торопясь, поспешил в тёплой звёздной ночи, наполненной спокойным стрекотом цикад и чертовски раздражающим жужжанием гнуса и москитов, к Шарлотте-Амалии.[19] Было ещё темно, хоть глаз выколи, когда я дошёл до берега и без затруднений прошёл мимо стражи в форт. Там у причала была пришвартована лодка, принадлежавшая ка кому-то торговому судну, стоявшему на рейде. Я забрал её и, ориентируясь по якорным огням судов, смог незаметно выйти из бухты и взял курс на восток.
Не думайте, что четыреста миль под парусами в одиночку на открытой лодке было увеселительной прогулкой, но мне очень пригодилось всё, чему меня научил Данн. Пригодились умения одолевать волну, потому что было как раз то время года, когда дует самый сильный пассат. Как только я вышел из-за прикрытия островов, меня встретили сильные, тяжёлые и непрерывно грохочущие волны с белыми гребешками. Пришлось одной рукой править, а другой — вычерпывать воду, и так более суток, пока мне не посчастливилось войти в закрытую бухту, где не было ветра и где я смог бросить якорь и выспаться.
Ещё хуже стало, когда неделей позже я достиг восточного побережья Эспаньолы, которая была оплотом испанцев. Днём я прятался среди мангровых зарослей, выползая только ночью при свете луны. Когда я наконец убрался с территории этих папских прихвостней, чувствовал я себя ужасно. От меня остались только кожа да кости. Мои косматые волосы стали жёсткими, как щётка. Губы пересохли и потрескались, так что я вряд ли смог бы произнести хоть слово. Кожа вообще была сухая, как трут, и словно опалённая лесным пожаром. К тому же я едва мог сидеть, потому что задница у меня была вся истёрта и воспалена. И хотя я спал в лодке, приходилось держаться поближе к берегу, и меня поедом ели всякие кровососущие насекомые. Да, на Джона Сильвера было страшно смотреть. В таком виде, чуть ли не при смерти, его и подобрали буканьеры старой закалки, которые были не прочь, чтобы он присоединился к их братству.
Они были свободны и жалки, эти последние выжившие потомки охотников и искателей счастья. Время у них будто остановилось. Они чертовски тосковали по прошлому, всё ещё мечтая о великих походах на Панаму и Картахену, и не понимали, что их время ушло. Они болтали о добрых старых временах, о предателе Моргане, об Олонне кровавом, Монбаре Губителе, о Граммоне Безбожнике, Ле Роке Братце и о Ван Хорне, не имевшем прозвища, но снискавшем себе известность тем, что во время боя он оказывался одновременно в разных местах палубы и стрелял в каждого, проявившего хоть малейшую трусость и слабость. Все их старые привычки и ритуалы свято соблюдались, и большинство не возражало. У них был совет, и все вопросы решались голосованием. Они всё делили поровну и владели всем, поделённым между собой. Они не имели фамилий и называли себя и друг друга по именам и прозвищам, потому что кто они и откуда, не принималось в расчёт.
Как охотники они не имели себе равных, а кроме того, они любили поесть и относились к еде со всей серьёзностью. Они умели приготовить шоколад, хотя это была торговая тайна испанцев, которая тщательно скрывалась. Они также знали, что мясо кабана становится вкуснее, если кормить его абрикосами. Они умели аппетитно приготовить мясо обезьяны, используя соль крупного помола, а также ухитрялись подстрелить обезьяну, не запачкавшись её испражнениями. Верьте или нет, но я сам видел: негодницы обезьяны гадили себе в лапу, забрасывая затем дерьмом охотников — представляете картину? Сбивать обезьян с деревьев — тоже нелёгкая задача, потому что выстрел должен сразу убить животное, иначе обезьяна, зацепившись передней или задней лапой, продолжает висеть, пока другие обезьяны не придут на выручку и не унесут раненого, истекающего кровью сородича, под жуткие крики и стоны.
Но еда должна была быть на столе, и старые буканьеры это умели. Они готовили так, что ты, подобно дворняжке, от одного запаха исходил слюной. У них я научился хранить продукты и приобрёл кое-какую сноровку, пригодившуюся мне позднее в жизни — в моей замечательной таверне «Подзорная труба» в Бристоле, и на борту проклятого судна «Испаньола», чуть не ставшего погибелью моей.
Труднее всего было выносить то, что эти черти были набожными — они начинали трапезу с молитвы и чтения Библии. Но я держал себя в руках, ведь мне нужно было их расположение, чтобы привести себя в норму после побега с плантации. Однако мне это, конечно, было не по нутру. С отвращением слушал я бесконечно повторяемую историю о буканьере Дэниеле, который на одной из якорных стоянок приволок на борт священника и попросил провести службу. У них давно не было Бога, сказал Дэниель священнику. На палубе срочно соорудили алтарь, и священник завёл обычную волынку, хотя весь трясся от страха. У них не было ни колоколов, которые бы звонили к молитве, ни псалмов, но Дэниель предложил вместо колоколов и пения псалмов стрелять из пушки. Всё шло хорошо вплоть до причастия, до тех пор, пока один из членов команды не опрокинул в себя целую бутыль христовой крови и не начал богохульствовать и во всё горло выкрикивать проклятия. Дэниель резко оборвал его, а когда тот отказался проявить надлежащее уважение, Дэниель схватил пистолет и выстрелил ему в голову.