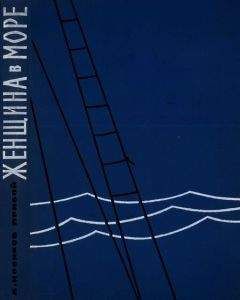Вечером, когда мы уже были свободны от вахты, Джим приглашает Блекмана, Шелло и меня к столу, ставит бутылку виски, купленной им у судового повара, и начинает нас угощать.
— Я отплавал, — говорит он твердым голосом, разливая по кружкам виски. — Немного не хватает до пятидесятилетнего юбилея моей морской службы, ну, ничего…
— Вы счастливый человек, Джим! — говорит Шелло, на этот раз необычайно серьезный. — Вам удалось более шестидесяти раз обернуться вокруг солнца, а это не шутка при нашем положении. Удастся ли это нам?
— Да, я не считаю себя несчастным. Я хорошо пожил, черт возьми! Если бы мне снова родиться и меня спросили бы, кем я хочу быть, я выбрал бы только долю моряка, не задумываясь нисколько. Словом, я не прочь повторить свою жизнь…
Опорожнив кружки, мы вместо закуски запиваем виски водой…
— Вот вам все мое богатство, — говорит Джим, выкладывая на стол жалованье и деньги, вырученные им от продажи матросам своего сундучка с тряпьем. — Здесь около четырех, фунтов. Вот эти письма, — продолжал он, показывая рукою на два запечатанных конверта, — опустите в почтовый ящик, а деньги пошлите переводом. Разделите их поровну на две половины: одна половина пойдет на остров Цейлон, а другая — в Сан-Франциско. Это мой последний подарок детишкам. Больше у меня ничего нет. Адреса на письмах…
Джим спокоен. На морщинистом лице не дрогнет ни один мускул, глаза сухи. Все догадываются о его намерении, но никто не говорит об этом ни слова. В кубрике, кроме нас, находится еще несколько человек матросов: одни спят, развалившись на нарах; японец, сидя на корточках, починяет свою рубашку; индус, примостившись на краю нар, играет на губной гармошке; на другом конце стола, увлекаясь, двое сражаются в карты. А Джим уже закладывает в старый мешок большой камень, находившийся на судне для балласта, деловито прикрепляет к мешку лямки и, взвалив тяжелый груз на спину, увязывает его наглухо морскими узлами, точно он, забрав большой запас продуктов, собирается в далекое путешествие.
— Не подождать ли вам, Джим? — не утерпев, говорю я взволнованно.
Шелло, злобно сверкнув глазами, дергает меня за блузу, а старик, глядя в сторону, упрямо бросает:
— Кажется, я достаточно взрослый человек, чтобы поступить так, как мне хочется.
Джим обходит всех, крепко пожимая руки, и поднимается по трапу на палубу. Мы провожаем его и, остановившись у люка, смотрим, как он твердым шагом подходит к борту, по-прежнему спокойный и серьезный. Ни одной жалобы, ни одного вздоха. В последний раз оглянувшись, говорит нам:
— Попутного ветра вам, друзья… Прощайте…
— Прощай, Джим! — отвечаем мы разом. — Прилетай к нам чайкой.
— Хорошо!
Тихо закатывается солнце, вся равнина моря в оранжевых тонах.
Старый Джим, повернувшись к рубке, громко кричит:
— Капитан!
Услышав зов, капитан важно выходит из рубки на мостик, но, увидев Джима, отворачивается.
— До скорого свидания на дне моря!..
С последними словами старик, вскочив на борт, бросается в воду вниз головою.
— О, решительно! — замотав кудрявой головою, говорит Блекман и убегает вниз, а за ним удаляются и все остальные.
— Так умирает английский моряк! — бросает на ходу Шелло.
Оставшись на палубе, я некоторое время с грустью смотрю за корму, на то место, где только что скрылся человек, провалившись в темную бездну вод. Ничего не видно, кроме игриво бегущих волн, позолоченных закатом, как будто никогда и не существовало Джима, этого славного и храброго моряка.
VIII
Второй день пошел, как мы оставили Алжир, где почти треть команды разбежалась и была заменена новыми матросами, второй день все ухудшается погода, выматывая из нас силы.
Сменившись с вахты, мы сидим в своем кубрике за общим столом, пьем абсент, которым запаслись на берегу, и едим мясные консервы, ругая повара, что он не приготовил нам горячей пищи. Все мы чувствуем усталость, провозившись долго с уборкой брамселей и бом-брамселей, и только винные пары, распаляя кровь, начинают придавать нам бодрость.
— Братья! Черти смоленые! — ухмыляясь, восклицает один из матросов. — Сказано — не собирайте себе сокровищ на земле…
— И вы будете пролетариями, такими же бездомными, как морской ветер, — добавляет Шелло.
Все смеются.
— Почтим память нашего товарища Джима, — взяв в руки кружку с абсентом, предлагаю я присутствующим.
— Правильно! — откликаются голоса.
— Да, за него стоит, — говорит Шелло, возбуждаясь, что с ним редко бывает. — Это был моряк с дьявольским присутствием духа. Он порвал все швартовы с жизнью и отчалил на тот свет так же отважно, как мы идем в кабак или в публичный дом. Будь я владыкой неба, я за один этот поступок простил бы ему все грехи и приказал открыть для него все двери рая. Но сам владыка, конечно, этого не сделает, ибо он ослеплен своей славой и не замечает красоты человеческого духа. Зато сатана, наверное, отнесется к Джиму с большим уважением…
— О, это верно, как смерть! — подмигивая левым глазом, вставляет Блекман.
Все опоражнивают свои кружки стоя.
«Нептун», содрогаясь в бурных объятиях стихии, скрипит всем корпусом, точно страдает закоренелым ревматизмом. Гулко бьют волны в борта, мотая судно во все стороны, в табачном дыму странно дергаются человеческие фигуры, стараясь сохранить равновесие и моментами ловя банки с консервами, вилки и галеты, ерзающие по столу с одного края до другого. Через грязно-зеленые стекла иллюминаторов смутно рисуется взмыленное море, — оно, начиная с горизонта, то стремительно летит вверх, точно намереваясь встать ребром, то так же стремительно падает, точно куда-то проваливаясь. В кубрике сумрачно.
Один жалуется на тяжелую жизнь моряка, а сосед его, очень скромный швед, поступивший на «Нептун» в Алжире, успокаивая, отвечает на это:
— Всякий человек свой крест несет, несем его и мы.
— Так ли это? — сурово спрашивает Шелло, обращаясь к шведу. — А вдруг окажется, что не крест тащит человек на своих изнуренных плечах, а гнилое, никому не нужное бревно, и не к Голгофе приближается, а к помойной яме, — что тогда делать?
Швед, смутившись, растерянно моргает.
— Эти бредни трусливых людей свободным морякам не к лицу, — продолжает Шелло, скользя взглядом по лицам присутствующих. — Плюем мы на всякое идолопоклонство! Лучше выпьем в честь моряков всех стран, за мировых бродяг, за их прошлое, настоящее и за три года вперед…
— О, я давно говорю, что у нашего рыжего дьявола не голова на плечах, а целый парламент! — восторгается Блекман, готовый пить за что угодно, лишь бы было вино.
Шелло, потрепав негра по плечу, впервые громко рассмеялся, и в его смехе ясно послышалось нечто общее между ним и Амелией. Я вспомнил, что у нее есть брат, плавающий где-то матросом, и что при первой встрече с Шелло на судне мне показалось в нем что-то знакомое. Это меня взбудоражило.
— Мистер Шелло, не течет ли в вас французская кровь? — спрашиваю я, стараясь быть спокойным.
Он удивленно смотрит на меня.
— А вы откуда знаете?
— По вашему смеху догадываюсь. Наполовину вы англичанин, иначе вы бы не были таким рыжим.
— Чертовски верно! Дальше?
Но в это время прибежавший с вахты матрос, заглянув в наш кубрик, орет во все горло:
— Все наверх!
Недовольные, с ворчаньем и руганью, мы выбегаем на верхнюю палубу и останавливаемся кучкой на шкафуте, ожидая дальнейшего распоряжения.
Громадным пожарищем пылает закат, взметая исполинское пламя, как будто окутывая распухшее солнце в огненную парчу. Словно придя в неистовый гнев, багровеет море, вспененное, клокочущее, все в холмах, поднятых яростным ветром. А с севера, точно поднимаясь из кромешного ада, дымятся черные тучи, неуклюжими пластами загибаются по своду неба, ширясь и разрастаясь, рушась, как горы, обвалами. Кажется, что все злые духи, собравшись в несметную рать, приближаются к нам, рокоча громами и с треском бросая раскаленные стрелы. Все становится странно-загадочным в огненно-красном полусумраке.
Вдруг ветер исчез. Бессильно полощутся паруса. Тихо. Только не унимается потревоженное море, сурово хмурится, бурно вздымая широкую грудь. Чувствуется, как все вокруг напряжено до крайних пределов. И, заставляя настораживаться, закрадывается смятение; как всегда перед наступающей опасностью, я испытываю обостренность зрения, подмечаю всякую мелочь.
В рубке четверо рулевых, выбиваясь из сил, работают на штурвале. Сам капитан, на мрачном лице которого я еще ни разу не видел улыбки, находится на мостике. Грузный, похожий в своем непромокаемом плаще и зюйдвестке на пирата, он, повернувшись вполоборота к своему помощнику и боцману, отдает им какие-то распоряжения. У помощника нет той отваги моряка, какой владеет капитан, — он, что-то отвечая, беспокойно оглядывается на север, откуда, вырастая от моря до черных туч, ползет на нас непроницаемая муть. Боцман смотрит на них обоих с таким видом, точно напоказ выставляет свое нескладное лицо. На мостик поднимается кок, держа в руке никелированный чайник с горячим кофе.