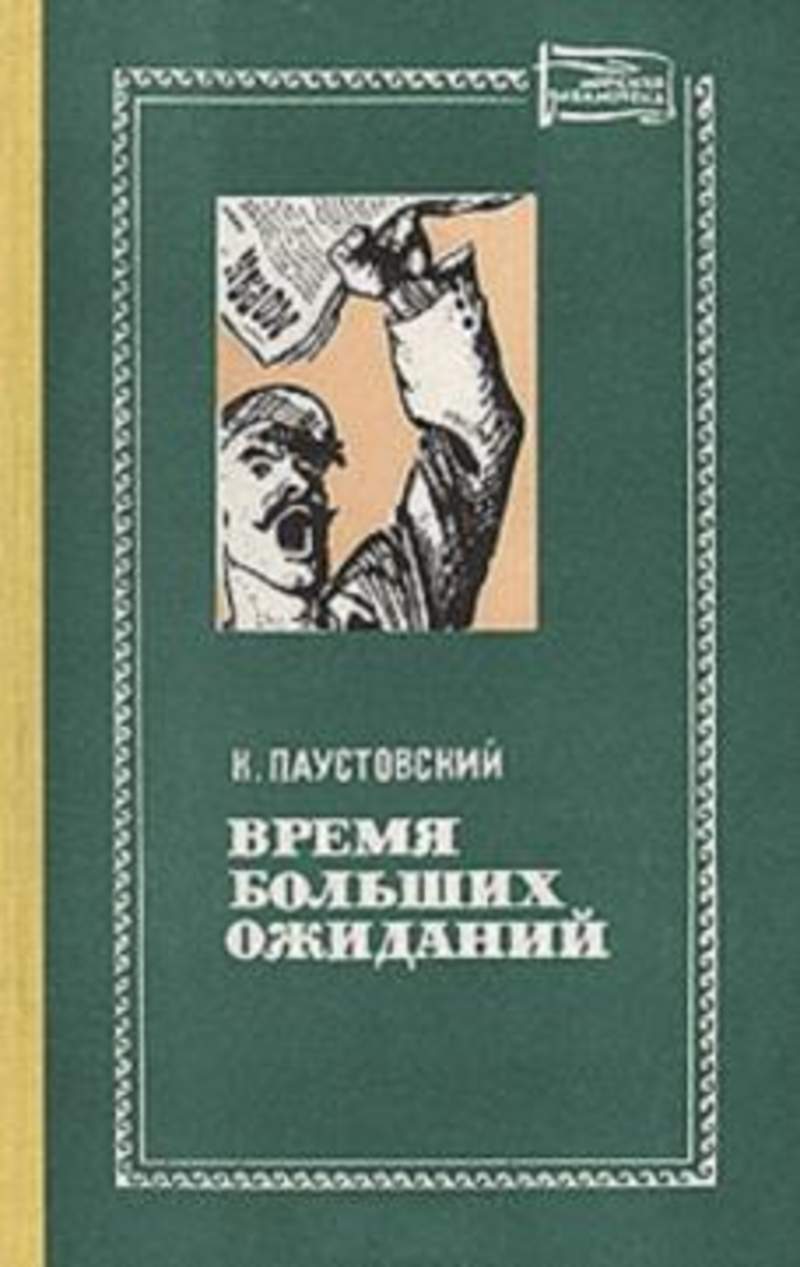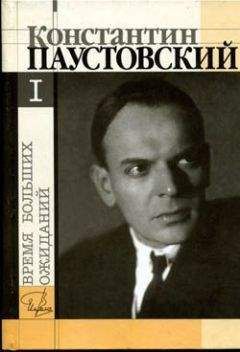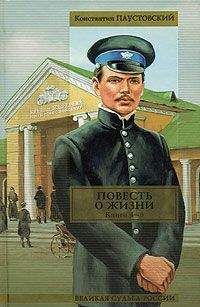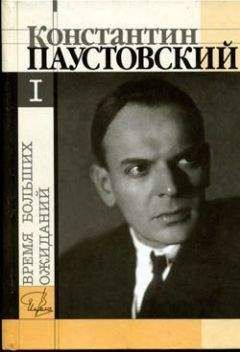без конца расспрашивал о России. Все, что рассказывал Ваня, казалось мальчику замечательной выдумкой.
Каждое утро мать мальчика — худая и красивая женщина — читала ему вслух толстую книгу. Ваня копал грядки около террасы и слушал.
В книге рассказывалась печальная история матроса, скитавшегося по земле в поисках потерянного кисета с табаком. Океаны сменялись вековыми лесами, леса — горячими пустынями, пустыни — вершинами диких гор, горы — шумными и веселыми городами.
Матрос встречал много людей, то крикливых и насмешливых, то робких и гостеприимных, то драчливых и вспыльчивых, но никто не мог помочь ему найти драгоценный кисет. Без этого потертого кисета чудак-матрос не мог жить. Наконец одна маленькая веснушчатая школьница посоветовала матросу вернуться домой п посмотреть, не забыл ли он кисет на скамейке около кровати, куда он складывал, ложась спать, свое грубое платье. Матрос вернулся домой и нашел кисет. В нем осталось табаку как раз на одну трубку. Порог его дома зарос высокой травой. Трава качалась и кланялась матросу, радовалась тому, что этот упрямый человек вернулся на родину, и матрос осторожно переступил через траву, чтобы не помять ее.
Книга кончалась словами:
«Чужое небо и чужие страны радуют нас только на очень короткое время, несмотря на всю свою красоту. В конце концов придет пора, когда одинокая ромашка на краю дороги к отчему дому покажется нам милее звездного неба над Великим океаном и крик соседского петуха прозвучит, как голос родины, зовущей нас обратно в свои поля и леса, покрытые туманом».
Ваня сел на грядку и стал осторожно счищать щепкой с лопаты налипшую землю. Он прислушивался, но голос на террасе замолк.
Муравьи ползли один за другим по серому стволу дерева, и Ваня вспомнил муравьиные дороги в сосновых лесах около Пилева, заросли вереска и бересклета, крик журавлей под родным небом с его топкими вечерними облаками.
Ваня поймал одного муравья па щепку. Он был синий, огромный. Он тотчас же стал па задние лапки и приготовился вцепиться в руку.
Ваня бросил щепку и заплакал. Он не мог удержать слез, они текли по его впалым небритым щекам, капали на руки, на лопату, на злых синих муравьев, и Ваня, плача, думал, что он мог бы проплакать сутки, целую неделю, так много накопилось тяжести на душе. О ней он никому не рассказывал, да и некому было рассказывать.
Когда мальчик принес Ване завтрак, он застал его еще плачущим. Губы у мальчика задрожали, но он сдержался и сказал суровым голосом:
— Я все знаю. Вас обидела рыжая девчонка. Ваня покачал головой и украдкой вытер слезы.
— Нет, — сказал он глухо. — Это так…
— «Так» ничего не бывает, — строго повторил мальчик слова, слышанные от взрослых тысячу раз.
— Ну так… — сказал Ваня. — Вспомнил про разное, про свою страну. Очень она далеко отсюда.
Мальчик осторожно поставил кастрюльку с супом на землю и убежал в дом. Он долго не возвращался. Ваня начал есть суп. Слезы изредка еще текли по его щекам, но было уже легче.
Мальчик прибежал красный от волнения и сунул Ване в руку маленький кусок картона. Это был старый, давно использованный пароходный билет.
— Он настоящий, — сказал мальчик таинственно. — Мама ездила с ним в Лондон. Она подарила его мне и сказала, что, когда я вырасту большой, тоже поеду по этому билету в Лондон. Я его спрятал за печкой. Возьмите.
— Зачем же он мне? — спросил Ваня.
— Возьмите, — повторил мальчик, и губы у него опять задрожали. — Поезжайте домой. Взрослому нельзя плакать.
Завтра уходит пароход. Я смотрел в газете.
Ваня встал. Он хотел что-то сказать мальчику, но не смог. Он только ласково взъерошил теплые волосы на его голове, осторожно воткнул лопату в землю и вышел из сада. Хлопнула калитка. Ваня прислушался. За ней было тихо.
Больше месяца еще прожил Ваня в Брисбене, голодал и зарабатывал гроши на билет до соседнего порта, чтобы только уехать из Брисбена и случайно не встретить мальчика. Мальчик был уверен, что Ваня уехал на родину с его использованным, пробитым несколькими контролерами билетом, и нельзя было разрушать эту уверенность. Ваня прятался от мальчика, как бродяга прячется от полицейских.
Только через месяц он уехал в Батавию, а оттуда то зайцем, то палубным пассажиром, то гальюнщиком-матросом, моющим пароходные уборные, — добрался до Лондона.
В Лондоне его взяли на советский теплоход и привезли в Ленинград.
Ваня вернулся на родину осенью. Осень выдалась в том году сухая и ясная. Земля отдыхала от богатого и тяжелого урожая, она как будто спала в голубых туманах, в шелесте тихих лесов. Ее дыхание было свежим, исцеляющим прежние обиды.
В Пилеве Ваня поступил помощником машиниста на узкоколейную железную дорогу. Он с жадностью говорил с людьми, присматривался ко всему, что происходило вокруг, и чувствовал даже в каждом пустяке удивительную жизнь как будто знакомой и вместе с тем повой родины, видел множество признаков счастья, расцветавшего на некогда-то скудных полях, в когда-то нищих деревушках.
Однажды в выходной день Ваня пошел с машинистом Кузьмой Петровичем — маленьким, лоснящимся от машинного масла стариком — на Боровые озера ловить рыбу.
Мальчишкой он бегал на эти озера, но каждый раз, когда возвращался, мать замахивалась на пего вожжами и визгливо кричала:
— Откуда такой барчук взялся, косоротый! Лошадь не поена, не кормлена, а он по озерам шлендает!
Мать давно умерла. Умер и дед Гундосый. Старое кладбище, где они были похоронены, распахали и засеяли клевером. В клевере гудели шмели. Они отвесно взлетали из травы и с треском ударялись о заколоченные окна церкви. В церкви жили старые худые пауки. Они заткали все окна и часами сидели в оцепенении около высохших мух, болтавшихся в паутине.
Путь на озера был долог. День стоял туманный, засыпанный сухими березовыми листьями. Посвистывали синицы, курлыкали журавли над вершинами сосен. Ваня узнавал старые места: лесные заброшенные дороги, уводившие в заросли осинника, просеки, заросшие вереском, бессмертником и колосистой травой, и муравьиные тропы в рыжем зернистом песке.
Над лесным краем стояла прозрачная тишина — та осенняя тишина, когда кажется, что звенит даже паутина, перелетающая через поляны.
По пути зашли в деревню, где стояла Ванина изба.
В избе давно уже жили чужие — семья лесника.
К Ване вышла девушка в синем сарафане. Две длинные темные косы она перекинула через плечо и все время перебирала их от смущения.
— Дома-то никого нет, — сказала она и подняла на Ваню спокойные светлые глаза. — Отец в лесу, а мать поехала в город па колхозную ярмарку. Зайдите.