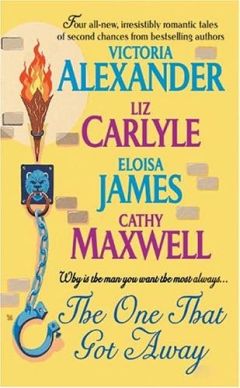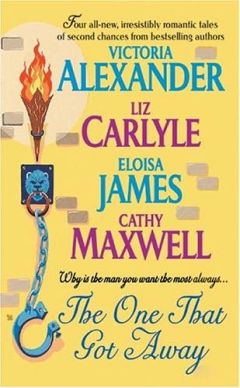Ветер понемногу крепчал, и в три часа, когда, подняв на борт уже с десяток котиков, мы раздумывали над тем, продолжать ли охоту или идти обратно, на бизань-мачте шхуны подняли сигнал к возвращению. Это был верный признак того, что с усилением ветра начал падать барометр и что наш штурман тревожится за судьбу шлюпок.
Мы пошли на фордевинд, взяв на нашем парусе один риф. Стиснув зубы, сидел наш рулевой, крепко сжимая в руках кормовое весло, и попеременно бросал беспокойный взгляд то на шхуну, когда мы поднимались на гребень волны, то на гроташкот, а то и «а корму, где вздымаемая ветром темная рябь возвещала о приближении шквала или увенчанной шапкой пены целой лавины воды, которая грозила сокрушить нас. Веселым хороводом неслись в бешеной пляске высокие волны, выделывая самые причудливые фигуры и ожесточенно преследуя нас со всех сторон, пока какой-нибудь громадный вал ярко-зеленого цвета с молочно-белым гребнем не поднимался с трепещущей груди океана и не прогонял их прочь. Но через секунду они вновь появлялись, вытягиваясь и приседая по-новому. Они метались на солнечной дорожке, где волны, большие и малые, капли и брызги походили на расплавленное серебро, а вода теряла свой темно-зеленый цвет и превращалась в сверкающий поток только для того, чтобы тотчас же исчезнуть в бесконечном просторе угрюмой, непокорной стихии, грозные, темные волны которой вздымались вверх, разбивались и снова катились вдаль. Однако все это движение, сверкание и серебряный блеск вскоре исчезли вместе с солнцем, которое скрылось за тучами, мчавшимися по небу от вест-норд-веста-предвестниками грядущего тайфуна.
Мы быстро добрались до шхуны, но на борт нас приняли последними. Через несколько минут с котиков были сняты шкуры, шлюпки и палубы вымыты, и мы, умывшись и переодевшись в сухое платье, сидели внизу в теплом кубрике, где нас ждал обильный горячий ужин. На шхуне поставили все паруса, так как нам предстояло пройти до утра семьдесят пять миль к югу, чтобы вновь очутиться возле лежбища котиков, от которых мы отстали за последние два дня.
Мы несли первую вахту с восьми вечера до полуночи. Ветер вскоре почти достиг силы шторма, и наш штурман, по-видимому, вовсе не собирался спать этой ночью, так как непрестанно ходил взад и вперед по палубе. Через некоторое время марсели были взяты на гитовы и закреплены, а затем спущен и свернут и бом-кливер. Волнение на море стало нешуточным: волны перехлестывали через палубу, заливали ее и угрожали смыть шлюпки. Когда пробили шесть склянок, нам было приказано перевернуть шлюпки и наложить на них штормовые найтовы. Этим мы занимались, пока не пробили восемь склянок — нас сменила ночная вахта. Я сошел вниз последним и видел, как вахтенные на палубе начали крепить бизань. В кубрике все уже спали, за исключением нашего новичка — «каменщика», погибавшего от чахотки. Бешено раскачивающийся фонарь освещал кубрик бледным, дрожащим светом, превращая в золотистый мед капли воды на желтых дождевиках. Во всех углах, казалось, появлялись и исчезали черные тени, тогда как наверху, в самой носовой оконечности судна, позади оснований битенгов, спускавшихся от верхней палубы до нижней, где эти тени таились в засаде, подобно сказочному дракону у входа в пещеру, было черно, как в преисподней. Время от времени, когда шхуну качало сильнее обычного, свет, казалось, на мгновение проникал туда, чтобы тотчас же исчезнуть, и на носу становилось еще темнее и чернее, чем прежде. Рев ветра в снастях доносился до слуха приглушенно, как отдаленный грохот пересекающего эстакаду поезда или рокот набегающего на гальку прибоя. Зато волны с такой силой били в наветренный борт судна, что, казалось, разрывали бимсы и обшивку в клочья. Скрип и стоны шпангоутов, пиллерсов и переборок — такое напряжение испытывало судно — заглушали стоны умирающего, тревожно метавшегося на своей койке. Попытки фок-мачты вырваться из тисков палубных бимсов вызывали ливень водяной пыли, а вздохи ее пропадали в неистовстве шторма. Небольшие каскады воды струились по основаниям битенгов и, мешаясь с ручьями, стекавшими с мокрых дождевиков, бежали по нижней палубе, исчезая в главном трюме.
Когда пробили две склянки ночной вахты — или, если говорить так, как говорят на суше, пробил час ночи, на баке загремела команда: «Все наверх! Убавить парусов!»
Соскочив с коек, сонные матросы кое-как напялили одежду, дождевики и морские сапоги и выскочили на палубу. Обычно, когда такое приказание приходится выполнять в холодную штормовую ночь, «Джек» угрюмо ворчит: «Кто не хотел бы продать ферму и уйти в море?»
Только на палубе, особенно после того как пришлось покинуть душный кубрик, по-настоящему чувствовалась сила ветра. Он, казалось, стоял стеной, не позволяя ни двигаться по уходящей из-под ног палубе, ни даже, когда налетали особенно свирепые порывы, дышать. Шхуна шла под кливером, фоком и гротом. Мы быстро спустили фок. Ночь была темной, и это порядком затрудняло нашу работу. Тем не менее, хотя свет луны и звезд не мог проникнуть сквозь толщу гонимых ветром штормовых облаков, природа отчасти сама помогала нам. Мягкий блеск исходил от поверхности океана. Каждый могучий вал, весь фосфоресцирующий и пылающий крошечными огоньками мириадов микроскопических животных, грозил обрушить на нас ливень огня. Все выше и выше, все тоньше и тоньше становился гребень волны по мере того, как она начинала изгибаться, готовясь к прыжку, а потом с грохотом обрушивалась через фальшборт массой мягкого сияния и тонн воды, которые сбивали матросов с ног, разбрасывая их в стороны, и оставляли в каждой щели, в каждой трещине дрожащие пятнышки огня, горящие до тех пор, пока их не смывала очередная волна, оставляя на их месте новые. Иногда несколько валов, один за другим, с лихорадочной поспешностью обрушивались на палубу, заполняя ее водой по самый фальшборт и тотчас исчезая через подветренные шпигаты.
Чтобы зарифить грот, мы были вынуждены спуститься под ветер и идти с попутным штормом под одним зарифленным кливером. К тому времени, когда этот маневр был завершен, ветер усилился настолько, что судно .не могло лечь в дрейф. И мы полетели на крыльях шторма сквозь тьму и водяную пыль. Ветер заходил то с правого, то с левого борта, а один раз огромный вал ударил в корму шхуны, чуть не развернув ее к ветру. Когда наступил рассвет, мы убрали кливер, не оставив таким образом на судне ни одного поднятого паруса. Поскольку мы шли с попутным ветром, шхуна перестала принимать на себя воду носом, однако в средней части судна волны чередовались с лихорадочной поспешностью. Это был шторм без дождя, но сильный ветер наполнял воздух водяной пылью, которая поднималась на высоту салинга и резала лицо, словно ножом, сокращая видимость до сотни ярдов. Море стало темно-свинцовым; оно медленно перекатывалось длинными величественными валами, вершины которых ветер обращал в горы пены. Рыскание шхуны под порывами ветра увеличилось. Она то почти останавливалась, будто ей предстоял подъем на гору, то, поднявшись на гребень волны, кренилась вправо и влево, а потом выпрямлялась и замирала, словно испугавшись открывшейся перед ней зияющей бездны. Подобно лавине, устремлялась она вперед, когда море с кормы обрушивалось на нее силой тысячи стенобитных орудий, зарываясь носом по кат-балки в молочную пену, которая лезла на палубу со всех сторон: с носа, с кормы, через якорные клюзы и через поручни.