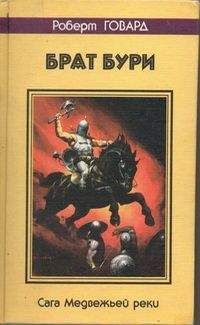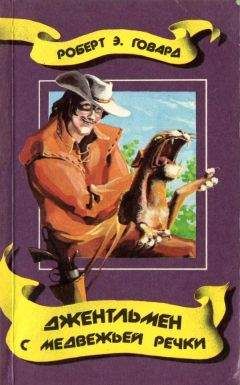голосом:
– Не тронь! Не смей трогать мои вещи! Убирайся прочь!
– Какая милая девушка, – заметила Маргарет, когда мы продолжили путь. – Но как странно она себя вела!
А я ничего не сказал, потому что только и думал про себя: ну, уж теперь-то я доказал Глории Макгроу все, что хотел. Держу пари, теперь-то она поняла, что я не врал, когда обещал ей, что привезу на Медвежью речку самую красивую женщину. Но почему-то веселей мне от моей победы не стало.
Глава 12. Война на Медвежьей речке
Вытаскивая девятнадцатую дробину из моего плеча, папаша сказал:
– Свиньи, они ведь опасней для жизни общества, чем все скандалы, разводы и пьянки вместе взятые. А когда свинья, – папаша сделал паузу и поднес охотничий нож к моей голове, где все волосы были начисто сожжены, – так вот, когда она и не свинья вовсе, а натуральный кабан-секач, да прибавь сюда еще горожанку-учительшу, да городского недотепу, да кучу обозленных родственников – тут-то любому разумному человеку все станет понятно. Сиди тихо, Бакнер пришьет назад твое ухо.
Прав был папаша. Некого мне было винить за то, что случилось. Ногу Джо Гордону я сломал по ошибке, а Эрат Элкинс врет, будто я нарочно проломил ему пять ребер. Если бы дядюшка Джеппард Граймс не лез не в свое дело, то он и не получил бы заряд дроби себе в зад, и дом Билла Кирби сгорел тоже не по моей вине, вот что я вам скажу. И в том, что Джек Граймс отстрелил ухо Джиму Гордону, я тоже не виноват. Как по мне, так моей вины тут меньше всех, а всем, кто захочет с этим поспорить, я мигом объясню, что к чему.
Но что-то я поторопился. Давайте-ка вернемся в тот день, когда культура едва появилась среди простых обитателей Медвежьей речки.
Как я уже сказал, я твердо решил научить наше молодое поколение уму-разуму, а потому собрал народ на поляне – подальше, чтоб мисс Девон не сбежала в панике, услыхав наши споры и мирные способы убеждения, – и изложил всем свои взгляды. Мнения, как это обычно бывает у нас на Медвежьей речке, сильно разошлись, но, когда пыль снова осела, а пороховой дым рассеялся, оказалось, что подавляющее большинство на моей стороне. Некоторые выступали категорически против, мол, ничего хорошего из всего этого учения не выйдет, но, повалявшись немного в грязи, они решили, что образование – это не так-то уж и плохо, и согласились, чтоб мисс Маргарет занялась воспитанием молодежи.
Меня спросили, сколько я пообещал ей платить. Узнав, что я пообещал ей целую сотню, все подняли шум, мол, со всей Медвежьей речки столько деньжищ и за год не наскребешь. Но я все устроил. Я сказал, пусть каждая семья соберет все, что у них есть – енотовые меха, мед, медвежьи шкуры, кукурузную брагу и что там еще, – а я буду каждый месяц ездить в Боевой Раскрас и продавать все это добро за звонкие монеты. Я добавил, что с удовольствием буду самолично каждый месяц объезжать каждый дом, чтобы убедиться, что никто не забыл внести свою долю.
Потом мы стали спорить о том, где построить школу, и я предложил устроить ее между папашиным домом и стойлом, но папаша встал и заявил, что не потерпит никакой школы вблизи своего дома, потому что толпы визжащих ребятишек распугают всю дичь в округе. И потребовал, чтоб школу построили не ближе, чем в миле от него, а иначе он напомнит всем, у кого на Медвежьей речке самый ловкий указательный палец и самый острый глаз. Мы еще немного поспорили, а пятерым нашим уважаемым гражданам пришлось даже поваляться немного в грязи, и мы решили построить школу у горы Апачей. Все равно большая часть населения Медвежьей речки обитает у ее подножия. А мой кузен Билл Кирби любезно предложил в качестве взноса дать мисс Маргарет кров.
Вообще-то, я хотел, чтобы и школа была поближе к моему дому, и чтобы мисс Маргарет жила с нами, но подумал, что все и без того складывается удачно, ведь я могу в любую минуту прийти к ней в гости, если захочу. Я и прежде виделся с нею каждый день, и с каждым разом она становилась все красивей. Недели шли одна за другой, и все было гладко. Я приходил к мисс Маргарет, она учила меня читать и писать, хотя это оказалось делом нелегким. Но мне казалось, что я потихоньку становлюсь образованней, а уж в любовных делах так и вовсе преуспеваю, как вдруг мир и любовь запнулись о камень – здоровенный такой камень, размером с натурального кабана – им оказалась свинья по имени Даниэль Вебстер.
Все началось, когда Танк Уиллоуби приехал из Боевого Раскраса и притащил с собой одного городского неженку. Ума-то у Танка было не больше, чем положено законом, я уж говорил, но в этот раз он проявил удивительную сообразительность, потому что, едва разгрузившись, он не стал мешкать и повернул тут же назад. Он только передал мне записку и молча показал пальцем на новичка, прижимая шляпу к груди.
– Чего это ты такое изображаешь? – нахмурился я, а он тут же ответил:
– Снимаю свое сомбреро в знак уважения к усопшему. Оставить такой экземпляр на Медвежьей речке – это все равно что бросить кролика в стаю голодных волков.
Он тяжко вздохнул, покачал головой и снова нацепил шляпу.
– Покойкам смирнус, – сказал он.
– Чего-чего? – не понял я.
– Это латынь, неуч. По-нашему – покойся с миром.
С этими словами он развернулся и поскакал прочь, подняв пыль столбом, а я остался один на один с этим странным парнем, который все сидел на своей лошадке и с любопытством таращился на меня.
Я подозвал сестрицу Уачиту и велел, чтоб она прочитала мне эту записку, потому что она-то уже выучилась читать у мисс Маргарет; она прочитала, и вот что там было сказано:
Дорогой Брекенридж!
Это мистер Дж. Пемброк Пембертон, охотник из Англии, я недавно повстречал его во Фриско. В Америке ему стало скучно, он расстроился и уж собирался уехать в какую-то Африку, чтобы стрелять там в львов да в слонов, но я уговорил его поехать со мной на Медвежью речку, потому как за одну только неделю на нашей Медвежьей речке приключений ему светит больше, чем за целый год в этой самой Африке. Но в тот самый день, когда мы проезжали Боевой Раскрас, я повстречал одного своего доброго знакомого, и этот старый