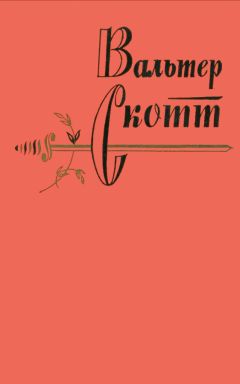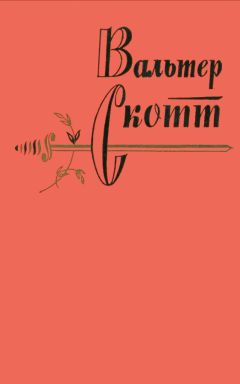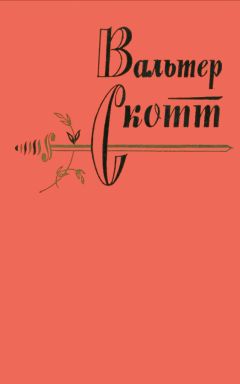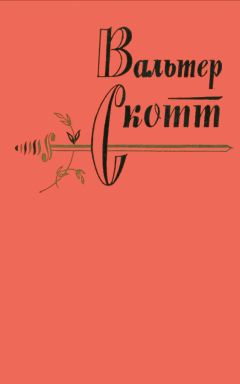Вальтер Скотт. Собрание сочинений в двадцати томах. Том 20
Л е о н т и й
Та сила, что, как вестницу ненастья,
На небеса шлет грозовую тучу,
Веля в гнездо укрыться коноплянке,
На Грецию взирала безучастно
И нам судьбы ничем не предрекла.
Д е м е т р и й
О, были сотни предзнаменований:
Попрание законов, слабость власти,
Бунтарство черни, вырожденье знати -
Все признаки больного государства.
В те дни, когда заводит всякий сброд
Речь о правах, каких еще, Леонтий,
Ждать знамений в угоду демагогам,
Что вводят в заблужденье лишь глупцов?
«Ирина», акт I [1].
Внимательным наблюдателям за жизнью растительного царства хорошо известно, что хотя отводок от старого дерева по внешнему виду ничуть не отличается от молодого побега, в действительности этот отводок достиг такой же степени зрелости или даже одряхления, как и дерево-родитель. Этой особенностью, говорят, и объясняется одновременная болезнь и гибель многочисленных деревьев определенной породы, получивших все свои жизненные соки от одного ствола и поэтому не способных пережить его.
Точно так же земные владыки пытаются ценой огромного напряжения сил пересаживать целые поселения, большие города и столицы; основатель такой столицы рассчитывает, что она будет столь же богата, величава, обширна и пышно украшена, как и прежняя, которую он жаждет воссоздать. В то же время он надеется начать новую эру, воздвигнув новую метрополию, которая должна, по его замыслу, не только сравняться долговечностью и славой со своей предшественницей, но, быть может, даже затмить ее юным великолепием. Однако у природы существуют свои законы, равно применимые, надо полагать, и к человеческому обществу и к царству растений. Есть, видимо, общее правило, согласно которому то, чему предназначена долгая жизнь, должно развиваться медленно и улучшаться постепенно; всякая же попытка, какой бы грандиозной она ни была, поскорее осуществить задуманное на века, с самого начала обрекает предпринятое дело на преждевременную гибель. В одной прелестной восточной сказке дервиш рассказывает султану, как он ухаживал за великолепными деревьями, среди которых они сейчас гуляют, когда эти деревья были еще слабыми побегами; гордость султана уязвлена, ибо он видит, что рощи, выращенные столь безыскусственно, с каждым днем набирают новые силы, а его собственные истощенные кедры, насильственно вырванные единым усилием из родной почвы, поникли своими царственными кронами в долине Ореца.
Насколько мне известно, все обладающие вкусом люди — кстати, при этом многие из них недавно побывали в Константинополе — сходятся на том, что если бы любому сведущему человеку дали возможность обозреть земной шар и выбрать город, более всего подходящий для столицы мировой империи, он отдал бы предпочтение, городу Константина, столь счастливо сочетающему в себе красоту, роскошь, безопасность местоположения и величие. И все-таки, при всех преимуществах расположения и климата, при всем архитектурном блеске церквей и дворцов, при обилии мрамора и сокровищницах, полных золота, даже сам царственный основатель города, должно быть, понимал, что хотя он и может по своему усмотрению распорядиться этими богатствами, но создать замечательные творения искусства и мысли, которые веками потрясают и радуют людей, способен только человеческий разум, развитый и доведенный древними до высшего своего предела. Греческий император мог своей властью разорить другие города и вывезти оттуда статуи и жертвенники, для того чтобы украсить ими новую столицу, но и те люди, которые совершили великие подвиги, и те — не менее, может быть, почитаемые, — которые запечатлели эти деяния в поэзии, в живописи, в музыке, давно перестали существовать.
Для народа, хоть он и был пока что самым цивилизованным в мире, уже прошел тот период, когда жажда заслуженной славы является единственной или главной причиной, побуждающей трудиться историка или поэта, художника или ваятеля. Принятая в государстве раболепная и деспотическая конституция уже. давно полностью разрушила гражданский дух, оживлявший историю свободного Рима; она оставила лишь бледные воспоминания, которые отнюдь не вызывали желания соперничать с нею.
Если представить себе Константинополь в виде одушевленного существа, то следует сказать, что пусть бы даже Константин и сумел возродить свою новую столицу, привив ей жизненно важные и животворные принципы древнего Рима, — Константинополь уже не мог подхватить, как не мог и Рим бросить, эту блистательную искру.
В одном важнейшем отношении состояние столицы Константина совершенно изменилось, и, безусловно, к лучшему. Мир стал теперь христианским и, отказавшись от языческих законов, избавился от гнета позорных суеверий. Нет ни малейшего сомнения и в том, что лучшая вера дала естественные и желанные плоды, понемногу смягчая грубость сердец и укрощая страсти народа. Но в то время как многие из обращенных смиренно принимали новое вероучение, кое-кто в своем высокомерии обеднял священное писание собственными домыслами, а другие не упускали случая использовать свою принадлежность к церкви или духовный сан как средство к достижению временной власти. Так и получилось, что в этот критический период результаты великой религиозной перемены в стране, хотя и принесли непосредственные плоды, посеяв множество добрых семян, которые должны были взойти впоследствии, но в четвертом столетии они еще не смогли проявиться настолько, чтобы приобрести господствующее влияние, ожидаемое людьми, в них уверовавшими.
Само убранство Константинополя, его вывезенная из чужих краев роскошь были отмечены некоей печатью старческого увядания. Когда Константин привез в новую столицу древние статуи, картины, обелиски и другие произведения искусства, он тем самым признал, что ничего сравнимого с ними в более поздние времена уже создано не было. Император, ограбивший весь мир, и особенно Рим, для того, чтобы украсить свой город, стал похож на беспутного юнца, который похищает у престарелой родительницы драгоценности и дарит их ветреной любовнице, хотя все видят, как неуместны на ней эти украшения.