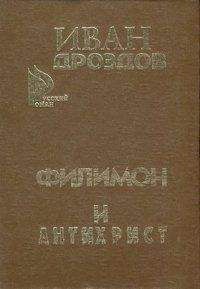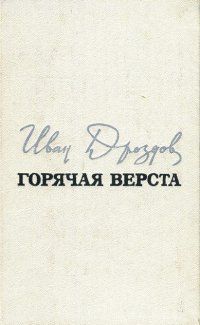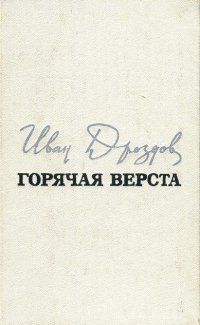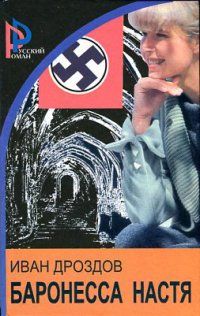Тревожными были только слова «новые поколения». «Что это значит?» — переглядывались учёные. О каких новых поколениях загалдел вдруг этот хитрый и коварный Бурлак, которого в институте боялись как нечистой силы? Он в министерстве заведовал наукой, от него шли самые страшные, разрушительные директивы: то важную лабораторию прикроет, то выживет из коллектива яркую творческую личность. Буранов ему не перечил, будто бы знал, что Бурлак на короткой ноге с самой мадам Брежневой. А однажды он самолично привёл в институт парня с трясущейся головой и выкаченными на лоб глазами и повелел зачислить его научным сотрудником. Институтские остряки затем, кивая на него, шутили: «Это наш Эйнштейн».
Бурлак и раньше любил говорить обо всём новом, а теперь-то слово «новое» звучало всюду: «новые люди», «новые подходы», «новое мышление».
— Наш дорогой Александр Иванович ныне, как никогда, нуждается в хороших помощниках, — сказал заместитель министра и наклонился влево, коснулся двумя пальцами плеча сидевшего с ним рядом Зяблика. — Нам было нелегко найти человека, достойного встать рядом с таким большим авторитетом в науке, каким является наш дорогой академик Буранов. По научному потенциалу, по эрудиции, по значимости собственного вклада в науку о сплавах на обозримом горизонте такого человека нет. Но среди вас есть люди, имеющие большой организаторский дар. — Бурлак снова коснулся двумя пальцами плеча Зяблика. — Коллегия министерства приняла решение: назначить Зяблика Артура Михайловича первым заместителем директора института.
Потом Бурлак стал пространно излагать мысли о счастливом и очень нужном для науки даре создавать дух гласности, привлекать внимание к делам своим собственным и своих коллег. Слова он говорил мягкие, круглые, — они никого не задевали и не обижали, и даже будто бы не касались никого в особенности, и молодёжь не совсем понимала высокого чиновника, но для старых, опытных учёных складывался из этих слов вполне осязаемый и всё чаще в научных кругах встречающийся тип человека, умеющего каким-то недоступным для других образом нагнетать вокруг намечающегося открытия — пусть даже небольшого, иногда и совсем незначительного — атмосферу важности и нетерпеливого ожидания.
Все показывали на человека, на людей, совершающих такое открытие и, затаив дыхание, говорили: «Скоро… теперь уже совсем скоро». Затем открытие совершалось или не совершалось — скорее всего, не совершалось — это уже не так важно, важнее было другое: обстановка ожидания чего-то огромного ошеломляла, врезалась в память и действующие лица этой тревожной, почти праздничной атмосферы запоминались многим и надолго, иные вырастали в глазах других до степени гигантов и таковыми оставались до конца своих дней в науке.
Как бы и жила наша наука, не набери в ней силу цепкий, оборотистый человек, умеющий вокруг любого дела поднять шум и смятение — и под колокольный звон выбить ссуду, прибавку к смете, выписать на валюту заморские приборы.
Ветераны, сидевшие в зале, многое помнят, многое знают. Иные из них вместе с Бурановым начинали науку о сплавах, работали во всех пяти зданиях, где в разное время размещался институт, и в первых трёх сырых комнатах в подвале деревянного домишки на Калужской заставе. Эти всё видели, всё знали, знали они и причину неумеренно хвалебной речи Бурлака: Зяблик — двоюродный племянник Бурлака; седьмая вода на киселе, но всё-таки… родная кровь. Старики знали, да молчали, молодёжь не знала, и знать ничего не хотела.
Галкин локтем толкал Филимонова, тот на минуту отрывался от блокнота, смотрел на трибуну, однако в голове его продолжали громоздиться ряды цифр, они занимали всё его существо.
Природа ловко устроила его ум и психику: он пребывал в мире, созданном его воображением, — в абстракциях и грёзах даже и тогда, когда другие теряли голову от внешних потрясений. Прибор Импульсатор — дело его жизни — был весь построен на математических зависимостях, и Филимонов, не имея портативной вычислительной техники, был вынужден ворочать в голове груды цифр, привлекать и отбрасывать формулу за формулой, — и всё в голове, по памяти; и так он работал десять лет над созданием технологии получения сверхтвёрдого сплава, — у него, естественно, выработался модус мышления, который одним мог показаться эффектной игрой в мыслителя, другим — просто чудачеством.
Были и такие, которые, понаблюдав его со стороны, предусмотрительно сторонились, серьёзно подозревая в нём мозговую порчу.
К счастью, ни первые, ни вторые, ни третьи не были правы. Филимонов был отрешён, глубоко уходил в расчёты, — частенько, в самое неподходящее время, — но ощущения реальности не терял, почти всегда видел, что происходит рядом, и оценивал происходящее, — особенно в первый момент, — языком математики. Так, услышав приказ о назначении Зяблика, он подумал: «Векторная функция вертикали…» — то есть неожиданное возвышение, взлёт, подъём. Где-то стороной прошла мысль: неделимые величины встретились. Тупик. Сюда поместилась вся история его личных отношений с Зябликом.
Филимонов внушал Зяблику страх. Он был неразгаданным ребусом, а всё непонятное, загадочное мучило Зяблика и страшило. Зяблик и раньше играл важную роль в институте, он лишь формально занимал должность заведующего лабораторией, на самом же деле был всегда при директоре; по утрам вслед за Бурановым входил к нему в кабинет и неотступно сидел там, пока директор находился в институте. Без него не решался ни один вопрос. Зяблик однажды во время болезни Буранова целый месяц прожил в его квартире, обжил там две комнаты, пробил отдельный вход на лестничную площадку, и когда академик выздоровел, ещё долго жил в его квартире, а и теперь даже, поскольку там было много собственных вещей Зяблика, оставался на ночь, жил по два, по три, а иногда и больше дней. Зяблик был тенью директора, его другом, советчиком, — именно поэтому в затруднительных положениях, не найдясь с ответом, Буранов автоматически поворачивал голову в сторону Зяблика.
В говорящем живом потоке шёл Николай Авдеевич с седьмого этажа на третий; никто с ним не заговаривал: в институте мало кто знал Филимонова, а те, кто знали, держались от него подальше, при встречах едва кивали, а то и вовсе не замечали. И никто бы не мог сказать, чем вызвано такое пренебрежение к человеку; очевидно, срабатывала неприязнь начальства к Филимонову. Группа Импульса считалась бесплодной, созданной для развития однажды мелькнувшей в голове Филимонова дельной идеи. Мало кто знал историю появления этого человека в институте. Он случайно встретился с жившим по соседству на даче академиком Бурановым. Рассказал ему о своей задумке применить токи высокой частоты при плавке металла и уже проделанных первых опытах. Буранов пригласил заводского инженера в институт и создал для него группу. В институте эту группу то Импульсом зовут, то Импульсатором, но толком мало кто знает суть проблемы. За десять лет учёный с трудом осилил кандидатскую диссертацию, а со своим провинциальным, каким-то полукрестьянским, полурабочим видом да ещё строптивым характером он так и не вписался в семью учёных, остался чужаком — неловким и неприятным. Несовременными были и его манеры; он мог громко засмеяться в приёмной самого директора, при этом взмахивал руками, как крыльями, — словом, весь он с головы до пят был грубоватым, неинтеллигентным, разрушающим представление о современном учёном, о сотруднике головного в своей отрасли института.