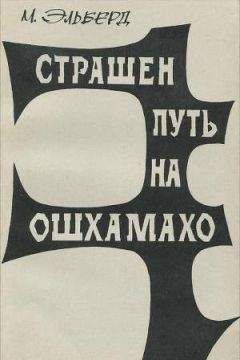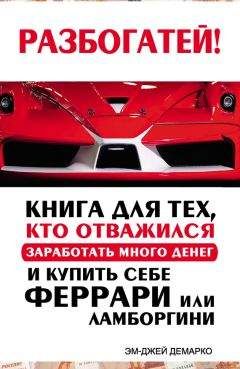— Э, нет, добрый Адильджери! — возразил Хакяша. — Если моя жена застанет меня с гур…[175] или как там зовут этих девушек, она возьмет в руки веретено, а то и дубовый шинак[176] и так ее погонит, так погонит! Если райская красотка и спасется бегством, то лишь благодаря легкости своего тела. Боюсь, и мне достанется…
— Чудак ты! — рассмеялся Адильджери вместе со всеми остальными. — Женщин в эдем не допускают. Кстати, кошек и собак тоже.
— А лошадей? — испуганно спросил Хазеша.
— Какие там лошади! — Адильджери досадливо, но, кажется, с некоторым сожалением махнул рукой.
— Почему же к женщинам такая унизительная несправедливость? — возмутился Ханаф. — Джабаги из Казанокея умнее нас всех, а он говорит: «Не судите дважды и не унижайте жен своих».
— Вы бы слушали, что говорит пророк Магомет, — мулла-любитель больше не улыбался.
— Ведь женщина, — продолжал Ханаф, — мать рода человеческого, в том числе и твоя мать, Адильджери. От женщины много и другой пользы. Кто придумал молот, наковальню, щипцы, серп? Старинные предания рассказывают, как бог-кузнец Тлепш мял раскаленное железо руками, клал на камень и ковал кулаком, пока Сатаней, цветок нартов[177], не подкинула в его кузню собственноручно выструганные из дерева маленький молот и наковальню. А щипцы? Она показала Тлепшу двух спящих змей, лежащих крест-накрест одна на другой, и пригвоздила их острой палкой к земле, проткнув разом обоих, — вот тебе и щипцы! То же самое и ножницы. А помнишь про старуху Уорсар? Она сочинила песенку о серпе, когда еще никто не знал, что это такое, и созревшее просо рвали руками:
Если железа полоску согнуть.
Как перо из хвоста петушиного,
Зазубрить ее изнутри,
Как гребешок петушиный,
То сделать останется ручку
Из деревянной чурки:
Вот тогда и получится Серп!
— Опять мне сказки рассказывают! — обозлился Адильджери. — Темные вы люди! Сидите у себя в глуши, в ничтожном своем хабле и ничего не знаете.
— Ну, о твоем рае мы узнали достаточно, — заявил Ханаф.
— Быть разлученными с нашими женами, сестрами, дочерьми… — сказал Хазеша.
— Прохлаждаться с неземными бесстыдницами, набивать брюхо сластями и при этом еще до хрипоты славить аллаха… — сказал Хакяша.
— Не иметь собаки, которая поможет и овец сохранить, и барсучью нору отыскать, собаки, которая просто душу порадует… — сказал Ханашхо.
— Не иметь коня, чтобы скакать по зеленому пастбищу, веселя свое сердце… — сказал Хашир.
— Нет, не нравится нам такая замогильная жизнь, — подвел итог Ханаф. — Чтобы жить и не провести весной борозду по просыпающейся земле, не услышать на заре петушиного крика, не увидеть, как твой несмышленыш тянется к тебе ручонками?!
Адильджери вскочил на ноги и, прежде чем торопливо их унести, проговорил голосом усталого отчаявшегося человека:
— Может, им, язычникам твердолобым, жить осталось всего одну ночь, а они… а они, шайтан знает, о чем они думают!
* * *
О предстоящем смертельном побоище больше всех, конечно, думал Кургоко Хатажуков.
Он мучительно искал верное решение, как лучше распорядиться ограниченными своими силами, но ничего путного в голову не приходило. Если на рассвете напасть первыми, ошеломить неожиданной атакой и затем быстро отступить… Нет, не годится. Кабардинцы, увлеченные горячкой боя, даже не услышат, не захотят услышать команду об отступлении. У них свои понятия о воинской доблести. Вместо того чтобы урвать победные цветы кратковременного внезапного натиска и с благоразумной поспешностью скрыться в лесу, ожидая нового удобного случая, храбрые джигиты в погоне за новыми цветами полезут дальше и увязнут в глубоком болоте численного превосходства крымцев. Выжидать? Бросаться из засад? Совсем не годится. Так не задержишь татар. Они могут успеть перехватить беженцев, закупорить проходы в ущелья, как сосуды затычками. Кроме того, и это самое худшее, Кургоко, действуя одним пальцем, не будет знать, что делают остальные девять…
Сейчас вокруг него собрались именитые князья и тлекотлеши, ждут кургоковского слова, сами пока ничего не предлагают. Издали на Хатажукова посматривает веселыми пытливыми глазами Ханаф — хорошо запомнил Кургоко этого славного человека! А вот возвращаются с опушки леса земляки и, можно сказать, верноподданные князя — добродушный бугай Шот и Тутук, лихой парнишка, который вполне мог оказаться сильнейшим на недавних игрищах и заполучить великолепный панцирь, будь у него соперник послабее; чем Кубати. (Сын тут же стоит поодаль, скромно прячась за спинами Тузарова и Казанокова.) Кургоко встал со ствола поваленного дерева — сидел на нем долго и в неудобном положении, пока не заныла поясница, — оправил черкеску. Князья и тлекотлеши насторожились, подались вперед.
— Эй, сосед! — Хатажуков окликнул Шота. — Что вы там с приятелем видели интересного?
Польщенный тлхукотль с удовлетворением хмыкнул и остановился.
— Крымцев там кишит, как пчел в ульях после заката солнца. Наша добрая Псыхогуаша сыграла с ними неприятную шутку: из-за ливня, а потом купания поголовного в холодном Балке татары лишились сухого топлива и устраиваются на ночлег без огня, мокрыми. Жаль, чихают не все разом и не в одну сторону, а то сдули бы с обрыва шатры хана и его пашей, чтоб трясучка ихние кишки узлами завязала!
— Твое желание, Шот, конечно, благородное, — со сдержанным смешком сказал Кургоко, — но завтра нам придется все же надеяться только и только на свое мужество.
— А почему не сегодня? — спросил Арзамас Акартов. Князь отрицательно покачал головой:
— Скоро будет совсем темно…
Джабаги, Канболет, Кубати о чем-то оживленно пошептались, затем Казаноков быстро подошел к князю:
— А в самом деле — почему не сегодня? И чем темнее, тем лучше! Здесь этот парень, — Джабаги кивнул на Шота, — своими ульями и пчелами напомнил того горящего козленка, который прыгал, по пасеке. И вот кое-кому пришла в голову мысль: а если козленок не один и если вообще не козлята…
Кургоко поднял руку:
— Не продолжай. Я всё понял! Шот! Я поручаю тебе взять людей, сколько нужно, согнать к закраине леса всех ослов и привязать на спину каждого по хорошей охапке сена. Думаю, у нас наберется, хотя бы сотни три этих животных.
— Я тоже все понял, мой князь! — радостно взревел Шот. — А три сотни ослов наберется, даже если считать ослами только тех, у кого четыре копыта и длинные уши! — с громким хохотом он помчался исполнять приказание.