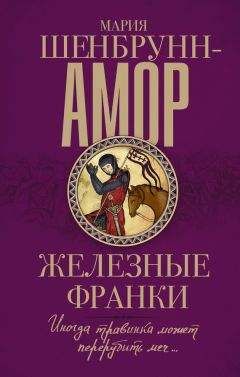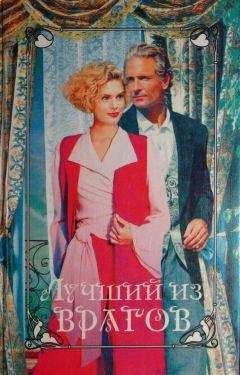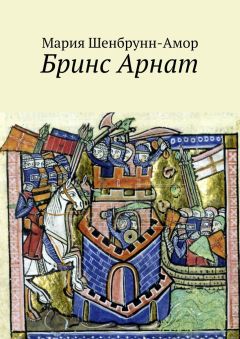Эти три километра они преодолевали несколько часов, до тех пор, пока Итамар не почувствовал болезненный, сбивший с ног удар в грудь. Он рухнул и читал «Шма Исраэль», пока не захлебнулся собственной кровью и не потерял сознание.
На рассвете, под прикрытием дымовой завесы, приземлявшиеся на несколько минут вертолеты подобрали всех. Сначала раненых, потом живых, а потом и тела, тело Итамара среди них.
Неожиданное, невиданное поражение под Дамаском показало мусульманам и византийцам, что латиняне вовсе не так непобедимы, как мнилось до сих пор.
Как мало очутилось толку в этом долгожданном Втором крестовом походе! Ради чего погибли мужья, отцы, сыновья? Исполнилось пророчество Исайи: «Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится…» Вся грандиозная эпопея завершилась полным крахом надежд, смертью тысяч отважных рыцарей и непоправимым уроном христианскому воинскому престижу. Европейцы превратились в посмешище всего мусульманского Ближнего Востока, и отношения между франками и крестоносцами изрядно испортились. Франки убедились, какой бедой может оказаться приход измученного походом войска, которое пришлось лечить, кормить, поить, задабривать и ублажать, чтобы оно потом действовало только под указку своих неопытных европейских предводителей.
Полбеды, что напуганный Менехеддин, лучше флюгера чующий, куда дует ветер, признал атабека Халеба своим верховным правителем. Истинная беда таилась в том, что Нуреддин оказался способным воодушевить своих воинов. Исламский мир узрел в нем истинного, долгожданного вождя-гази, призванного справиться с латинянами. Армии побеждают не численностью и мощью, а в первую очередь безудержной, отчаянной отвагой, силой духа, верой в победу, и все это, как солнечный свет, передвигающийся с утра до вечера, перешло от рыцарей Христа к предводителю неверных.
Вдобавок незаконнорожденный сын покойного Альфонсо Иордана, Бертран, не смирился с неожиданной смертью родителя, о которой поползло много глупых и безосновательных слухов. Бастард продолжал настаивать на своих сомнительных правах на Триполи. Отвергнув все искренние предложения Мелисенды и Раймунда Сен-Жиля решить вопрос путем переговоров, наследник при помощи отцовских воинов развязал с Сен-Жилем настоящую войну. Провансальцы умудрились завладеть крепостью Араима, и в этой крайности граф Триполийский был вынужден обратиться за поддержкой не только к правителю Дамаска, давнишнему своему союзнику, но и к смертельному врагу – Нуреддину, с просьбой о помощи в захвате крепости. Несмотря на то, что очень скоро Бертран и его сестра были пленены Нуреддином, все владения графу Триполийскому возвращены, а справедливость восторжествовала, отношения франков с армией покойного графа Тулузского так и не наладились.
Хуже нестерпимо оскорбительного нападения провансальцев на франкские владения было только то, что оно вынудило франков обратиться к нехристям ради воцарения справедливости! И можно было биться об заклад, что, раз одержав победу в Центральной Сирии, Нуреддин уже никогда не позабудет дорогу сюда.
Лучше бы Европа вовсе не являлась в Левант, чем явиться лишь для того, чтобы продемонстрировать магометанам свою слабость да обучить сарацин приходить друг другу на помощь и объединяться против христиан.
Разумеется, начались поиски виноватых. Люди недоумевали, за что погибло столько праведников, взявших крест? Как это справедливый и милосердный Господь допустил, чтобы французы – самый набожный из всех народов земли – были так унижены и так жестоко пострадали от рук язычников? По Европе уже шли слухи, что весь поход был частью пришествия Антихриста.
Констанция знала, что причиной всему – поведение французской королевы. В полном соответствии со словами Иоанна Богослова, эта Мессалина была облачена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, но внутри была наполнена мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Как филистимлянка Далила, она ослабила вверившихся ей мужчин, поселила вражду меж ними и погубила святую миссию христиан.
Но остальные упорно не замечали очевидного. Многие французы, желая оправдаться, принялись уверять, что франки благоденствуют на крови и костях европейцев, что Иерусалим пребывает в таком мире и благополучии, которые и в Европе недостижимы, что франки, якобы подкупленные дамасским золотом, злонамеренно уговорили Конрада передвинуть армию к самой неприступной части дамасских укреплений. Раньше Констанция с возмущением отвергла бы подобные слухи, но, если такой неустрашимый герой, как Раймонд, мог провести это лето в погонях за зайцами, а сама она только радовалась, что он остался дома, ей стало трудно слепо верить в праведность остальных.
Пуатье, однако, тяжелее многих переживал поражение под Дамаском, может потому, что его мучили стыд и раскаяние.
– Никогда больше Европа не придет нам на помощь. И все, разумеется, осудят меня.
Констанция не спрашивала, на кого он сам возлагает ответственность. Вслух никто Раймонда не упрекал, в конце концов, он был противником нападения на Дамаск, но все укоряли его в раздоре с Людовиком, а значит, и во всех ошибках короля. Князь отсутствовал на ассамблее в Акре и потому выходил виноватым во всех принятых ею дурных решениях. Воинов Антиохии не было среди погибших под Дамаском, и потому в этом разгроме погибла репутация ее князя. Иерусалимское королевство, потерпевшее уже второе поражение в Сирии, все больше склонялось к мысли, что сирийское болото безнадежно и наилучшее, что можно было достигнуть на северной границе, – это перемирие с Нуреддином, которое позволило бы повернуть силы франков на полвека саднящий в теле королевства нарыв – на Аскалон, по-прежнему удерживаемый египтянами.
Впрочем, после множества споров и взаимных нападок среди трезво рассуждающих возобладало мнение, что за все ответственны не собственные безосновательные мечты, греховные страсти, глупость, рознь и пороки, а коварная, еретическая Византия, поганым препятствием торчащая на пути между Европой и ее нежным отростком – Утремером. Недаром же Мануил заключил с тюрками Малой Азии мирный договор! Ромеи всегда были враждебны к крестоносцам, а теперь греческий царь еще и требовал Италию в собственное владение! Доводы эти казались тем достовернее и убедительнее, чем легче было упрекать дальнего чужака, нежели самих себя, ибо досадно и неприятно признаваться, что каждый из участников способствовал провалу затеи.
Констанция до некоторой степени собственную ответственность признавала, хоть и просила Господа учесть ее резоны. Над чем властен человек? Ученый каноник Мартин говорил – ни над чем, помимо своей души. Но и в этом Констанция больше не была уверена. Ее душа почернела вопреки ее желанию. Но без раскаяния не будет прощения, а как ей раскаяться, если во всем случившемся повинно чужое прелюбодейство и попустительское бездействие Людовика?! Чужие грехи не оставили ей иного выбора, но, конечно, намерения ее были благими. Не могла же она представить себе, что огромная, лучшая армия из всех когда-либо существовавших в мире не сумеет взять Дамаск и что прежний Раймонд к ней так и не вернется.