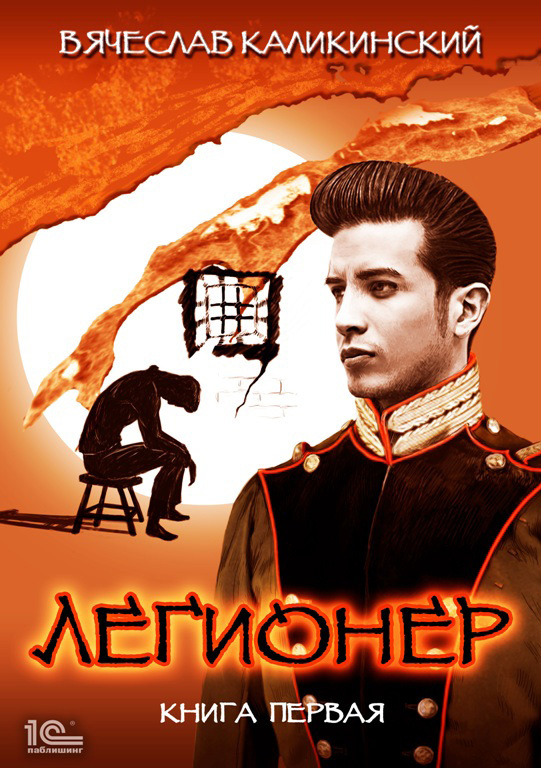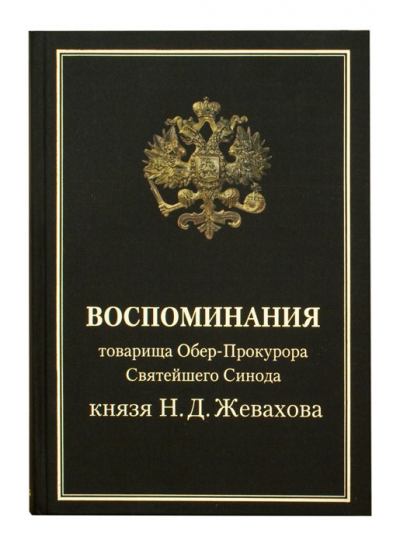какая разница, в конце концов, откуда у Ландсберга взялся царский пергамент? Гораздо важнее то, что он на нем написал и как сумел переправить письмо во дворец? В этом пособничестве вы моего Захаренко обвинять, надеюсь, не собираетесь? Как и меня? Да вы читайте, читайте!
Но Сперанский и без приглашения уже впился глазами в текст письма, изредка восклицая: «Вот дерзец!», «Нахал!», «Уму непостижимо!». Закончив чтение, смотритель поднял на Судейкина умоляющий и в то же время недоверчивый взгляд.
– И государь… Государь, стало быть, все это тоже читал? Его батюшка, царствие небесное, за одно такое письмо бы в Сибирь отправил дерзеца. Навечно!
– Ну, нынешний у нас великий либерал! – махнул по-свойски рукой Судейкин. – Впрочем, император был весьма раздосадован. И отдал распоряжение строжайшим образом учинить следствие по поводу легкости проникновения подобных писем в свои покои. Следствие поручено Жандармскому корпусу – ввиду крайней щекотливости ситуации и возможности существования у Ландсберга тайных помощников и единомышленников. Не только в самом тюремном замке, но и в покоях Его величества. Вот мои полномочия, милостивый государь!
Судейкин небрежно постучал по бумаге с царским вензелем пальцем с обгрызенным ногтем. А Сперанскому и в голову не пришло сомневаться: он с тоской размышлял – чем все это закончится для него?
– Успокойтесь, милейший! – сбавил нажим Судейкин. – Вас лично никто в подобном вольнодумстве и пособничестве упрекать не собирается. Начальник же не может, в конце концов, отвечать за каждого тюремщика или караульного. Тем более – в Зимнем своя охрана, а вы, насколько мне известно, там сроду не бывали и знакомств в кругах, близких государю, не водите.
– Все равно страшно, – признался Сперанский.
– Я же в своем докладе непременно отмечу ваши усилия и ваше тщание, с которым вы исполняете свой долг, господин смотритель, – многозначительно подчеркнул Судейкин. – Главное сейчас – не дать хода всяческим слухам! Никакой самодеятельности, господин смотритель! Никакого самочинного следствия и огласки. Передайте-ка мне государеву резолюцию. Вот так – и никому о ней ни слова! Речь идет, по сути дела, об оскорблении престола. И всякие разговоры вокруг этой темы просто неуместны!
Ретроспектива-10
Ландсберг с узелком в руках поспешил в тюремный лазарет. Распахнув туда дверь, он едва удержался, чтобы тут же не захлопнуть ее – волна зловония, почти осязаемая, выкатилась из помещения в коридор. Пахло гнилью, испражнениями, потом и на редкость вонючей «захаровской жидкостью для дезинфекции», которой здесь усиленно пытались заглушить прочие «ароматы». Вглубь обширного полутемного помещения с низким потолком уходили неровные серые ряды коек, на которых ворочались, выли, кричали от боли или что-то бормотали в бреду хворые арестанты.
Приставник, доведя посетителя до дверей, исчез. А Ландсберг сделал несколько шагов вперед, вглядываясь в лица больных. Проходы между койками были узки, и посетителя стали вдруг теребить со всех сторон, окликать, хватать за руки. У него просили хлебца, лекарства, копеечку, просфору, воды. Ошеломленный, он кивал, улыбался, говорил: «сейчас, сейчас!» – и оглядывался в поисках санитаров. Однако в обозримом пространстве не было видно ни мундиров, ни белых халатов.
Отчаявшись, Ландсберг наклонился к высохшему, словно мумия, лицу старика, лежащего, в отличие от прочих, спокойно и даже без видимых признаков дыхания:
– Дедушка, где здесь доктора найти?
– Дохтура ему! Дохтур сюды только раз в неделю и заходит! – словно проснувшись, закашлялся в недобром смехе старик. – Дохтур постоит, покричит, велит проветрить и полы помыть – и сейчас обратно, в свою аптеку. Носик вот, как ты, прикроет – только его и видели. Дохтура ему подавай, эва!
– Но кто-то из медицинского персонала тут есть?
– Фершал да санитары, – махнул костлявой рукой старик. – Во-он там, у окна, за занавеской сидят. В карты дуются. Дохтура ему, вишь, надо!
Чувствуя, как в груди закипает гнев, Ландсберг пробрался к окну, без церемоний отдернул занавеску из одеял, отгораживающую относительно чистый угол лазарета.
Там за столом сидели трое – здоровенный детина в донельзя грязном и явно маленьком ему когда-то белом халате, из-под которого виднелась волосатая грудь и еще двое, в арестантской одежде и серых фартуках, похожие на мясницкие, но с нашитыми красными крестами. Занятие троицы тайны не составляло: они азартно шлепали по столу картами. У ноги детины стояла полупустая четверть с остатками мутноватой жидкости.
– Кто таков? – едва обернувшись, рявкнул детина в халате. – Пошто сюда прешься?
Ландсберг медлил с ответом, пытаясь сообразить, кто перед ним – чин тюремной администрации или арестант, исполняющий здесь санитарскую должность? С администрацией ссориться было ни к чему – слишком свежи были воспоминания о карцере. Да и выставить могли без свидания с Василием Печонкиным. Неожиданную ясность внес один из фартучников: заметив, что «фершал» под шумок производит с картами какие-то манипуляции, он обрушил на него поток брани. С тюремщиком так обращаться не будут!
Ландсберг бросил на стол свой узелок и, гадливо улыбаясь, засунул «фершалу» в его широкие ноздри указательный и средний пальцы, рывком поднял руку. А когда детина, вынужденно поднявшись, вцепился в руку, причиняющую ему невыносимую боль, колено Ландсберга с маху ударило в низ его живота. Согнувшись пополам, детина с воплем рухнул на пол.
Не обращая внимания на катающегося от боли в паху и порванных ноздрях детину, Ландсберг сел на стол, собрал все карты в колоду и, крякнув, порвал ее пополам. Швырнул обрывки колоды в оцепеневших фартучников.
– Поднимите эту с-скотину, любезные, – скомандовал Ландсберг. – Да усадите напротив, говорить с ним желаю!
Позднее, анализируя свое импульсное решение и дивясь собственной агрессивности, Карл Ландсберг с грустью и удивлением осознал, что уже начал жить по каторжанским, тюремным правилам. Иначе здесь было просто нельзя: в тюрьме признавали только силу и наглость. К тому же за несколько дней, проведенных в Литовском замке после расправы Карла с обидчиками Печонкина, тюрьма с почтением «окрестила» его, присвоив кличку – Барин.
Его тут узнали. Скорее, догадались – их сиделец явно из благородных, с необычайной силой в чистых барских руках. Ландсберг невольно хмыкнул, вспоминая свои упражнения для развития пальцев и кистей рук от беспросветной скуки службы в Туркестане. Высшим шиком и рекордом у офицеров было разрывание полной, пятидесятидвухлистовой колоды новеньких карт. Здесь же карты были старенькие, бумага ветхая – а гляди-ка, какое впечатление!
Фартучники бросились к «фершалу», стали поднимать, зашелестели ему в уши: «Барин, должно! Он, не иначе! Вставай скорее, Митяй, пока он не рассердился!».
Все еще поджимаясь от болезненных ощущений в паху, детина боком заполз на табурет, рукавом размазал по физиономии кровь из надорванных ноздрей.
– Кто таков? – спокойно, словно и не было тут никакой расправы, вопросил Ландсберг, брезгливо вытирая пальцы рук страницами больничной книги.
– Митяем буду, ваше благородие, – всхлипнул детина, с ужасом